 Назад Назад 
|
|
 |
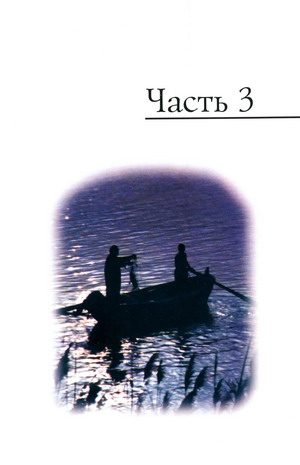
Глава 33.
Израильтяне говорят: "Израиль очень маленькая страна, но она — наша". И вот это — "наша" является ключом к пониманию того, что страна сильно милитаризована. Да и как иначе, вся современная история — сплошные войны и борьба с терроризмом. Все ныне живущие в Израиле живут на пороховой бочке. Однако не милитаризация этой страны меня удивляет. Меня удивляет, как можно, живя на пороховой бочке, шутить, смеяться и, в общем-то, не терять бодрости духа. Что ни говорите, а ни одной из стран, граничащей с Израилем, увы, доверять нельзя. У всех с пятнадцатого мая тысяча девятьсот сорок восьмого года, как говорится, рыльце в пушку. И все же израильтяне не скатились в противостоянии с арабами до пресловутого: "Кто виноват?! Арабы виноваты!" Как это произошло в гитлеровской Германии в отношении их самих. Более того, даже такие люди, как Борис Кимельфельд, которым вроде по штату положено быть завзятыми патриотами (в любой милитаризованной стране профессия "гид" политизирована) проявляют завидную корректность. Пример — наш ужин в Вифлееме, его дружба с арабами, хозяевами ресторанчика. Возможно, и здесь он что-то имеет с того, что привозит туристов, но это нормально — мир и свободный рынок предполагают сотрудничество. Большинство Бориных шуток при всей их язвительности либо характеризуют его самого, либо обоюдоостры и могут быть использованы теми, против кого направлены, причем с не меньшим успехом. Вот образчики остроумия.
Мы едем по Иерусалиму, новостройке, жилые дома, в основном, пяти-шестиэтажные. Я говорю:
— Что-то не вижу небоскребов? Боря, усмехаясь, объясняет:
— Дело в том, что арабы таскают раствор в ведрах, а выше шестого им тяжело.
Думаю, что по этой шутке легко читается советское прошлое шутника. Нас учили человеколюбию, братству, равенству со всеми народами, а более всего с угнетаемыми империализмом. Вот вам и шутка так называемой жалости к угнетенным, которую могли придумать только выходцы из СНГ.
Когда мы ехали вдоль Мертвого моря и Боря объяснял, что с востока территория Израиля ограничена впадиной Гхор, расположенной на месте активного разлома земной коры (обрамляющие впадину тектонические плиты расходятся со скоростью два сантиметра в год — по геологическим меркам весьма высокая скорость), он не преминул сострить, дескать, не против, если бы тот берег (имелась в виду Иордания) отдалялся и побыстрее.
Не знаю, как кому, а мы воспринимали Корины шутки, действительно, как шутки. А то, что он бывал иногда непоследователен, легко прощалось уже потому хотя бы, что сама природа в Израиле какая-то раздерганная: то дождь, то солнце, то буря, то тишина пустыни, причем до вязкого звона в ушах. Словом, Боря нам понравился и, расставаясь (он доставил нас с женой в отель "Хайат Регенси" без приключений), я подарил ему свою книгу повестей, то есть мы расстались весьма дружески.
Отель "Хайат" находится много ниже автострады. Справа — гора Содом, слева — отель, а автострада мчится между ними. Когда смотришь из окна автомобиля, — кажется, что отель на берегу моря. На самом деле, на берегу другие отели, а наш — на дистанции комфорта (метров двести от берега). Кругом идет стройка, прокладываются автомобильные дороги, трубы (по ним закачивается морская вода в бассейны отелей), но то, что уже сделано, настолько впечатляет, что стройку как-то пропускаешь, не улавливаешь.
Паспорт — тысяча пятьсот двадцать девять. Две первые цифры — "15" — этаж. Отель состоит как бы из состыкованных зданий, наш номер на стыке, а во внутренней части утла расположен балкон. Под нами четырнадцать балконов и пять — над нами. Так что можно говорить не о балконе, а о лоджии. Прекрасный вид, внизу оазис: пальмы, акации, заросли вечнозеленого кустарника, круглая оранжевая крыша какого-то непонятного заведения, похожая на легкомысленную шляпу, площадки, сплошь уставленные автомобилями, опять зелень деревьев, отели, напоминающие стопки книг, но взгляд не останавливается, перескакивает через них — море! Оно изумрудно. Облака сместились на Иорданские горы и, кажется, отдыхают на них.
С нашей стороны вид не менее экзотичен. Уже известная гора Содом, облака над нею подсвечены солнцем и кажется, что это сам святой Лот в кипе. Я смотрю перпендикулярно вниз и замираю, прямо под нами, как бы в промежутке стоймя поставленной книги — лекало бассейна, обрамленного приплюснутыми пальмами. Кафель иссиня-белый, и вода представляется оброненным сапфиром. И вдруг все меркнет. С другой стороны отеля обрушивается стена дождя. Дождь белый, он продвигается к морю, и по пути его продвижения очертания деревьев, строений и фешенебельных отелей погружаются как бы в туман. Через несколько минут иорданские горы растворились в серой мгле, а горизонт приблизился, кажется, что сразу за отелями на берегу — край Земли; если подойти к нему, то непременно увидишь трех мифических китов или трех слонов.
Жена предложила сходить пообедать. Господи! Только сейчас увидели, что коридор — своеобразные антресоли, огороженные бетонными емкостями, в которых цветут разноцветные примулы. Напротив нас идентичное крыло, разлинованное балконами и вниз и вверх. Я придвинулся к краю — далеко внизу, словно на дне колодца, освещенная сцена с роялем и несколько рядов стульев, теряющихся в пустоте зала. И еще несколько пальм прямо под балконами, их хвостатые листья тоже далеко внизу, но уже различимы, потому что вверху над нами стеклянный потолок и белое-белое, я бы даже сказал, сияющее небо.
Время обеда мы упустили, но не огорчились. Наша гид Света переложила знакомство с отелем на Борю, но мы отпустили его. Во-первых, он сам появился в "Хайате" впервые, а во-вторых, ему предстояла обратная дорога домой. В общем, мы отпустили Борю и не сожалели, нам нравилось самим вникать и разбираться. Удивительно, но в "Хайат" мы не встретили ни одного русского. Впрочем, кафе мы отыскали довольно быстро. (Оно находится в северо-восточной части здания, точнее, стеклянная стена кафе была повернута на север, и нашему взору была открыта долина, горы не загораживали небо.)
Мы выбрали столик у окна. Посетителей почти не было, да и мы никуда не торопились. К стойке подбегали девушки-официантки, и мы надеялись, что с минуты на минуту нас заметят. Однако — не замечали и, чтобы убить время, я раздвинул кисейные шторы, и мы с женой сразу как бы очутились на улице. Дождь окончился, а над долиной с Западного берега на Восточный были перекинуты две параллельные арки-радуги. Они походили на сказочный подвесной мост и сияли с таким неистовством, словно пытались затмить одна другую.
— Надо же! — воскликнула жена. — Никогда не видела ничего подобного.
— "Судьба, как ракета, летит по параболе, По-разному — круто и редко — по радуге".
— Ранний Андрей Вознесенский. Когда-то ты любил его стихи.
— И не только его.
Жена польщенно засмеялась. В шестидесятые годы она (студентка молпрома Омского сельскохозяйственного института) подарила мне сборник Евгения Евтушенко "Взмах руки". Подарок оказался настолько неожиданным и приятным, что мы впервые поцеловались. Тогда я зачитывался его стихами. И не только его, но и Андрея Вознесенского, и Роберта Рождественского, и Булата Окуджавы, и Беллы Ахмадулиной. Конечно, я уже знал кроме программных поэтов (Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова) и Есенина, и Блока, и Маяковского, и Цветаеву, и Ахматову, но они были где-то вдали, как недоступные горные вершины, а эти были такими же, как и мы, молодыми. Они дышали воздухом Хрущевской оттепели, а мы — еще и их стихами. Записные критики ругали поэтов за непричесанность мыслей, но в наших глазах это только прибавляло шарма.
— Как же не помнить?! "От Галки..." Ты была ужасно краткой.
— А теперь ты их не любишь!
Она сказала это с таким вздрагивающим вздохом, что я невольно напрягся. Разумеется, я понимал, что этот вздох со всхлипом никак не относится к тому, что я не люблю когда-то любимых мною поэтов. Скорее, здесь тоска по нашей промелькнувшей юности. Но наша юность немыслима без их стихов. И в то же время, которое называем застойным, когда голоса, голоса (скажем так) оттепельщиков стали менее звенящими, вдруг обнаружились другие, для кого-то не менее, а для меня более запоминающиеся голоса.
Помню, мы живем в городе Рубцовске Алтайского края и вдруг приносят журнал "Юность" (тогда мною очень любимый, как и "Новый мир"), а в нем стихотворение Николая Рубцова "Русский огонек". В Рубцовске — читать Рубцова?! Есть в этом что-то мистическое.
Кстати, Николай Михайлович бывал на Алтае. Иногда думаю, если бы мне посчастливилось встретиться с ним (тогда я был в морях), непременно уговорил бы его съездить в Рубцовск, но... Что не суждено, то — не суждено. Поэт — растение не только многолетнее, но и — фатальное.
После стихотворения "Русский огонек" какими-то путями, через студентов Литинститута, узнал о борьбе Рубцова с "западниками": он, естественно, "почвенник", но, главное, он причисляет к "почвенникам" Николая Заболоцкого. Кто такой Заболоцкий?.. Знакомство с его стихами привело в восторг. А потом — Ярослав Смеляков, а потом Анатолий Жигулин, а потом Глеб Горбовский и много-много других поэтов.
И вот — среди других, в среде которых уже живу, и с которыми уже печатаюсь наравне (точнее сказать — не печатаюсь) слышу речи, кажущиеся весьма убедительными. "Ты потому ничего не слышал: ни о Рубцове, ни о Заболоцком, ни о других поэтах хороших и разных, что слишком уж эти "евтушенки" и "вознесенские" крикливы, навязли в зубах и ушах". Скажу откровенно, меня, не имевшего никакого литературного образования, эти речи заставили призадуматься. Ведь ни "западники", ни "почвенники" не говорили о корневом методе советской литературы — социалистическом реализме. Стало быть, метод всех устраивал. Тогда о каком "западничестве" и "славянофильстве" могла идти речь? Очевидно, о каком-то карманном, разрешенном.
Позже, на ВЛК (Высших литературных курсах) побывав в журналах "Наш современник", "Новый мир" и "Москва", я столкнулся с таким изощренным равнодушием, что пришел к выводу, что если бы не было "западничества" и "славянофильства" — литературным чиновникам пришлось бы их придумать. Отказывать в публикации на идеологической почве — это же очень удобно, не надо даже читать произведения. Что и делалось "враждующими" сторонами неукоснительно. Полистайте серятину тех лет, журналы забиты секретарской литературой. А сколько кажущихся парадоксов — автор "почвенник", а печатается во "вражеских" изданиях и — наоборот. В годы ВЛК, задерганный прокуратурой, я пришел к простому выводу, что уж если какой-то человек по мне, в том числе и писатель, — я не должен его отдавать никогда и никому, ни за какие коврижки. Что с того, что власть считает его преступником?! Любая власть не вправе осуждать человека за помощь своему родственнику, пусть даже обвиняемому во всех смертных грехах. А у писателей — родство духа. Или, как говорил Александр Александрович Блок, "чувство пути" — это, пожалуй, покрепче родственных уз. Именно такой подход и есть — честный. А иначе всем нам придется смириться с мутной водой и, естественно, с теми литературными чиновниками, которые любят половить в ней рыбу. Надеюсь, понятно, что в каждом конкретном случае кому-то из нас лично представится "счастье" побывать ею.
— Ну что же ты молчишь — скажи что-нибудь? — попросила жена и опять невольно как бы всхлипнула.
— Понимаешь, "когда я был младенцем, я говорил, как младенец, рассуждал, как младенец. Когда я стал мужем, я упразднил младенческое".
— Так все-таки ты — упразднил?!
— Погоди, ничего я не упразднил. В тех годах, в нашем студенчестве, я все так же люблю стихи Евтушенко и Вознесенского.
— Все это слова, слова, — сказала она, не отрывая взгляда от сияющих радуг, свет от которых теперь как бы мерцал на зеркале вечных вод.
— Нет, ни слова, уже потому хотя бы, что нельзя плевать в кувшин, из которого пил когда-то. Это же равносильно — плевать в свое прошлое.
— А-а, та-ак, — тогда конечно, — и вдруг: — Неужели, мы такие старые?!
Жена грустно улыбнулась. Но все-таки это была улыбка, и я решил развить и закрепить успех.
— Нет, мы не старые. И не зрелые-перезрелые. Мы даже не молодые. Мы — юные. И я могу доказать это прямо сейчас, потому что намедни открыл три постулата, по которым только и можно определять истинный возраст.
Жена заинтересовалась, вопросительно взглянула на меня, дескать, ну и?
— В юности и молодости как бы горячо мы не ждали какого-то икс-сюрприза, случаясь, он всегда превышал все наши смелые ожидания. А зрелость, наверное, потому и зрелость, что каким бы ни был икс-сюрприз, он всегда равен величине ожидания. Старость же, к сожалению, время, — когда еще есть ожидания, но уже нет никаких сюрпризов.
— И как же теперь ты докажешь, что мы — юные?
— "Судьба, как ракета, летит по параболе
Обычно — во мраке и реже — по радуге.
...Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
Несутся искусство,
любовь
и история —
По параболической траектории!"
— Ну и... что они снесли? Золотые яйца?!
Жена засмеялась, пожав, плечами, мол, ничего не поняла. И тогда я напомнил, что, отправляясь на поиски кафе, мы, конечно, ждали сюрприза, но не верили в него, во всяком случае не предполагали, что он превзойдет наши самые смелые ожидания, а он — превзошел.
— Посмотри на эти радуги, на их яркость, кажется, они усиливаются сиянием друг друга.
Я пожал руку. Жена улыбнулась — ей не надо смотреть, она видит их с закрытыми глазами. И, помолчав, шепнула:
— Это наши — две судьбы.
Глава 34.
Девятое января двухтысячного года выпало на воскресенье. Почему-то вспомнилось предновогоднее открытое партийное собрание Алтайской писательской организации. Кажется, заканчивался тысяча девятьсот семьдесят седьмой год. Собрание было тяжелым, обсуждалась линия поведения поэтов на выступлениях перед читателями и квартирный вопрос. На собрании присутствовал заведующий отделом культуры и пропаганды Крайкома партии, который попросил не увязывать "линию" со вторым вопросом. Но как же не увязывать, если квартир две, а претендентов — практически вся организация. Именно после его просьбы как раз и стали увязывать. Какое-то время заведующий посидел в президиуме, а потом засобирался — о, эти склоки! Он не хочет быть свидетелем разборок. Инструктор Крайкома Надежда Ивановна останется, а ему — некогда. Всех, кто пожелает с ним встретиться, он примет уже в новом году, скажем... (разгоряченный зал притих — когда? неровен час, придется воспользоваться приглашением), скажем, девятого января — до свидания. Дверь почти неслышно захлопнулась, но этим глухим и от того как будто свинцовым хлопком нас как бы раздавило — приглашает обиженных прийти девятого января... Это что же, в Кровавое воскресенье?! Да нет, девятое выпадает на понедельник. Слава Богу! Зал облегченно зашевелился, а парторг, писатель-фронтовик, во всеуслышание сказал: "Причем тут Бог?! Если даже девятое — воскресенье, то в воскресенье — выходной, неприемный, день". В зале заулыбались, захихикали — молодец парторг, фронтовик — ему безыдейщину не пришьешь.
Невольно улыбнулся — хорошо, что мы в России живем, в Израиле воскресенье — первый рабочий день недели, своего рода наш понедельник. Всем обиженным и обездоленным пришлось бы идти в Крайком партии девятого января, то есть в Кровавое воскресенье.
— Чего светишься? — спросила жена.
— Я не светюсь, а, наоборот, переживаю, сегодня девятое января — Кровавое воскресенье, тяжелейший день, а у нас сплошные мероприятия: встреча с русскоговорящим гидом, знакомство с клиникой, лечебным центром, обслуживающим персоналом. Уже на сегодня запланированы процедуры. А еще завтрак, обед и ужин. И — отдых.
— Что ж тут плохого? — удивилась жена и тут же возмутилась: — Наговариваешь всякую чушь!
Она напомнила мою теорию, по которой всякий человек, а в особенности творческий, к сорока годам выходит на постоянную связь с космосом, а потому может и зачастую наговаривает свое будущее. Так что после сорока — человеку не на кого пенять в своих неудачах, кроме как на себя самого. Или все это только слова, колебание воздуха.
— Нет, это не слова и не колебание... а такой же непреложный закон, как стягивание информации к субъекту, который испытывает почти физические страдания от ее недостатка.
— Ну, это мы уже проходили, — сказала жена и потребовала, чтобы побыстрее одевался — пора на завтрак.
Вначале мы спустились на нулевой этаж, потом поднялись, потом опять спустились, пересекли пустой холл и оказались у распахнутых дверей, возле которых стояла очередь. Молодой человек и девушка, очевидно, сотрудники отеля, что-то помечали в тетрадях. Нам, рожденным при социализме и большую часть досуга проведшим в очередях, представлялось, что они помечают порядковые номера очередников.
Мы подошли и без лишних вопросов заняли места в конце очереди. Наверное, это не лучшее, чем можно гордиться, но мы, выходцы из СССР или, как сегодня говорят, из затонувшей Атлантиды, научились проявлять чудеса стояния. Мы, когда вливаемся в социум, называемый очередью, чувствуем себя аристократически комфортно. Для нас очередь, спаянная единством устремлений, своего рода идейная организация. А там, где идея — там мы всегда в своей тарелке.
Впрочем, — нет, не всегда. В январе тысяча девятьсот девяносто первого года мы пришли на Кубу на теплоходе "Борис Жемчужников" Балтийского морского пароходства. Наши трюмы были заполнены дефицитным строительным металлом, а на палубе стояли ровные шеренги колесных тракторов "Владимирец". Мы стали под разгрузку в порту Нуэвитас, где-то в пяти километрах от города. В один из свободных дней в числе старожилов команды — двух матросов и буфетчицы я отправился на открытом рейсовом автобусе непосредственно в город, чтобы посетить музей Революционной славы. Забегая вперед, скажу, что был потрясен огромным количеством фотографий двадцатилетних мальчиков, воинов-интернационалистов, погибших в Африке на ее зеленых холмах, которые воспел великий друг Кубы Эрнест Хемингуэй. Но еще больше был потрясен увиденным на улицах Нуэвитаса.
Итак, мы ехали в открытом автобусе по городу. Возле кинотеатров было довольно людно — шли наши "Неуловимые мстители". И вдруг я увидел огромную толпу мужчин, плотно заполнившую площадь. Одни мужчины: ни женщин, ни детей, ни подростков — мужчины. Запомнились головы и какой-то однотипный зеленый цвет. Ни крика, ни гомона, свойственных столь большому скоплению людей — напряженное молчание. А еще через улицу такая же площадь женщин — головы, белые блузки и зимние рейтузы с начесом изнутри (женщины Кубы модничали в них вместо шорт). О том, что это очереди, я не догадывался, пока мне не разъяснили, что в одном из магазинов будут "давать" рабочие костюмы "хэбэ", а через улицу — бюстгальтеры. Как бывший комиссар супертраулера "Давыдов" я пришел в ужас, — если все в мире считают, что это мы, русские, придумали социализм, да еще с человеческим лицом, — нам нет оправдания. В конце концов, простые люди всех стран-сателлитов возненавидят нас и постараются ускользнуть из-под нашей опеки. Что, в общем-то, и произошло...
А между тем мы приблизились к молодому человеку и девушке, сотрудникам отеля, и они, отметив нашу комнату, попросили нас больше не вставать в очередь — она только для туристов, приезжающих на один день. А мы — VIP -туристы. (Пусть меня простят пролетарии, но в дальнейшем, проходя в ресторан мимо очереди, мы не испытывали мук совести, напротив, радовались, что нам не приходится выстаивать в них.)
Ресторан в отеле "Хайат" двухъярусный, огромный и вместительный — выгородки, мосточки, ступеньки. Слева, сразу при входе, какие-то витрины и агрегаты из нержавейки (кстати, нержавейка повсюду сияла, даже посверкивала какой-то медицинской стерильностью) — здесь супы. (И опять, кстати, а возможно, и некстати. Супы в большинстве стран Европы протертые, то есть картофель, бобы и другие ингредиенты настолько измельчены, что суп по консистенции напоминает подливку.) В Израиле всегда можно заказать суп-бульон, подобный нашему. Но продолжим хотя бы поверхностное знакомство со шведским столом на завтрак. Опыт, приобретенный в ресторанах "Дан" и "Царь Давид", помог установить, что на верхнем ярусе (по левой стороне) горячие блюда: супы, омлеты, глазуньи, котлеты, мясо (причем, от отдельно тушеного в собственном соку до окорочков в грибах и всевозможных овощах, обработанных в электропечах); а на нижнем (в центре зала) — холодные закуски, соки, ягоды, свежие овощи и фрукты, в том числе и экзотические. Вообще зелени, солений и молочных продуктов было море. Нам не составляло труда подобрать наш обычный завтрак. И еще в первое же посещение ресторана мы почувствовали, что любой столик, который мы занимали (мы дважды пересаживались по своей инициативе) обслуживающим персоналом брался под особое наблюдение. Во всяком случае, кофе и сок нам принесли мгновенно, в то время как других отдыхающих усаживали за конкретные столики, а просьбу принести тот или иной сок если и не игнорировали, то и не спешили выполнять.
После завтрака, уже в номере, я спросил жену — довольна ли шведским столом?
— Очень, — ответила она. — Выбор королевский.
— Еще бы, пока мы плутали, пока стояли в очереди, зная о связи подсознания с космосом, я не терял времени даром, наговаривал, чтобы наш отдых был во всех отношениях замечательным.
— Ах, вот оно в чем дело, тогда постарайся, чтобы и в лечебном центре нас приняли хорошо. И поторопи гида Свету, — с сегодняшнего дня все процедуры оплачены.
Глава 35.
Расположение лечебного центра в отеле "Хайат" оказалось еще более сложной задачей, чем расположение ресторана. Длинные коридоры и коридорчики, заканчивающиеся несколькими ступеньками вниз. И главное, ни одного "встречного-поперечного", кто помог бы сориентироваться — пустота. Мы уже забеспокоились: как выбираться назад?! И тут, как говорится, "свет в конце туннеля" (хорошо освещенная боковая дверь, настежь раскрытая, на которой красовалась уже известная, по нашим сопроводительным бумажкам, надпись — MEDISEA, по-русски — "Медиси").
Гостиная лечебного центра была ярко освещена, но свет не раздражал (после полумрака коридоров и коридорчиков, наоборот, как бы возвратились в обычную обстановку). Сразу у входа, у левой стены, скамейка (с мягкими креслами), за нею — стеклянные шкафы (со множеством всевозможных банок и баночек с кремами), очевидно — витрина. Справа, кроме входной двери, еще две, между ними скамейка с твердыми креслами (на нее удобно садиться людям с больным позвоночником). Параллельно стеклянным шкафам на другой, правой, стене, дверь в кабинет заведующего центром доктора Владимира Фридмана и проход вглубь клиники. Но сердце гостиной — Елена Федорук, секретарь медцентра, на которую, как у нас принято говорить, свалены все организационные дела и мероприятия. Связанная с ними документация (календари, графики, отчеты) и, конечно, финансовый учет и регистрация всех, пользующихся услугами медцентра.
Когда мы вошли, Лена сидела за компьютером, что-то набирала и одновременно разговаривала по телефону. При нашем появлении прикрыла трубку, кивнув на скамейки, предложила располагаться. В течение трех минут, что ждали, выяснилось, что Лена в совершенстве владеет тремя языками: ивритом, английским и русским. Какой из них родной — бог весть?! Нам показалось, что русский — никакого акцента, даже намека. А потом, евреи-сябры, то есть родившиеся в Израиле, как правило, изучают английский. Выходцы из Франции, Германии, Южной Америки и Африки ограничиваются изучением иврита, и только эмигранты из стран СНГ в совершенстве владеют русским — родной язык.
Елена — молодая, деловая, энергичная — сидела за полуовальной стойкой, занимающей основное пространство гостиной. Каждую секунду занятая: либо разговором с такими, как мы, клиентами, либо — с сотрудниками медцентра, либо — по телефону, либо — работой на компьютере, она невольно притягивала взгляды, более того гипнотизировала безошибочной выверенностью своих движений. Легкие руки: одна — бежала по корешкам папок, а другая — "гоняла мышку" по нужным файлам. И всегда умиротворенный ровный голос, как мне показалось, гармонирующий с дизайном кабинета.
Открылась дверь рядом с входной дверью, из кабинета вышел лобастый мужчина средних лет в темной кипе и костюме. Весьма строго, с какой-то уличающей подозрительностью, взглянул на нас.
Это, конечно, так показалось: работая помощником капитана по политической части, мне иногда доводилось сталкиваться с неадекватной реакцией окружающих, которую я же и провоцировал. Я бы сказал реакцией самовнушения. Бывало, пройдешь по судну озабоченным, а матросы уже — поосторожней, что-то "помпа" сегодня не в духе, И все же, наверное, даже бывший — "рыбак рыбака видит издалека". Въевшиеся во внешность бдительность и строгость придают работнику по политической части крайнюю серьезность и подозрительность. И, очевидно, это происходит со всеми политическими работниками во всех милитаристических государствах.
Я шепнул жене:
— Ихний "помпа".
Он подошел к стойке, что-то сказал на иврите. Секретарь одной рукой держала трубку телефона, другую, оторвав от компьютера, подняла ладошкой к "помпе" (жест был понятен — просила подождать), он кивнул. Секретарь, не прерывая разговора, на ощупь пробежала по папкам и, не глядя, подала нужную. Строгому мужчине, вероятно, не понравилось, что секретарь выполнила его просьбу, ни на миг не прерываясь. Коротко взглянув на нас, приказал (так показалось) заняться нами. Секретарь спокойно (без видимой спешки) закончила телефонный разговор, улыбнулась нам.
Жена подошла к овальной стойке (строгий мужчина в кипе подвинулся), положила открытый конверт. Секретарь быстро вытащила бумаги, почти на лету просмотрев, сложила в нужном порядке.
Строгий мужчина, возвращая журнал, что-то спросил секретаршу. Из ее ответа я уловил "VIP-персоны". В глазах мужчины мелькнуло удовлетворение, мол, видите, я предупреждал! Он удалился, а я подумал: "Главная идея Израиля — быть сильным и независимым, а чтобы быть сильным и независимым — надо быть богатым. А богатство имеет ценность, когда приобретено честным путем, то есть с уважением к богатству. Вот и вся политика человека в кипе, он стоит на страже всех, кто честно обогащает его страну, а стало быть, должен защищать права туристов, тем более "виповцев". Именно это удовлетворение мелькнуло в его глазах, когда со свойственной ему строгостью он попросил секретаршу вначале обслужить нас, а потом уже разговаривать по телефону. Да-да, он поступил по-еврейски и попросил секретаршу так же поступить с нами. И кажется, только такие отношения и возможно признавать истинными в мире свободного рынка".
А между тем жена и секретарша познакомились. Естественно, и я был представлен. Называя имя секретарши, жена сказала:
— Елена Федорук.
— Просто — Лена, — поправила она.
Ихний "помпа" оказался врачом-дерматологом.
Появился заведующий. Он вышел из кабинета вслед за молодым мужчиной, который прошел к выходу, ни на кого не глядя и как будто чего-то смущаясь. Я обратил на него внимание, потому что он был в тенниске и шортах (все никак не мог привыкнуть, что в январе здесь форма одежды такая же, как у нас в средине лета).
Владимир Фридман, плотный мужчина моложавой наружности, слегка раздавшийся вширь. Он был одет в широкие белые брюки и такого же цвета спортивную сорочку с закатанными рукавами. Лысоватый и чисто выбритый (отсутствие какой бы то ни было растительности на голове и лице мужчины в годах почему-то унизительны) он тем не менее производил хорошее впечатление, я бы даже сказал — горделивое. Думаю, причина в его уверенности в себе, свойственная хирургам. Впрочем, Владимир (наотрез отказался от отчества) числился в "Медиси" не хирургом (в штате их не было), а урологом. Правда, до отъезда из России в тысяча девятьсот девяносто восьмом году практиковал, то есть делал операции по удалению камней из печени, почек, мочевого пузыря и прочее. Как сказал он сам о себе — профессор-уролог, имеющий свыше трехсот научных статей и монографий.
— И вот!..
Устраиваясь на стул возле стойки (поближе к Лене, чтобы самому лично ознакомиться с нашими медицинскими картами), горделиво крутнул головой, мол, а теперь здесь — сами видите. Что он хотел этим сказать — бог весть!
— Профессор Владимир...
Я сделал паузу, надеясь, что он подскажет отчество, но он вдруг запротестовал.
— Владимир, Фридман Владимир и только. В крайнем случае — Володя...
Я едва сдержал улыбку — уж таков наш менталитет. Горделивое во внешности, голосе, профессорская уверенность в себе и вдруг — Володя! Пожалуй, таким образом могла бы представлять Владимира Фридмана его жена, дескать, Володя — профессор, имеет свыше трехсот научных статей и монографий... Но чтобы сам — не вязалось, не стыковалось в представлениях. Как это так — Володя?! Хотя бы чей-то конкретный сын: пусть не Маттитьяху, а какого-нибудь Рафаила или Михаила. Нет же — Володя!
А тем временем, профессор Фридман, ознакомившись с нашими бумажками медицинского обследования, которое мы провели перед отъездом в Израиль, выразил удовлетворение и определил, у каких конкретно врачей "Медиси" нам следует побывать, чтобы, не откладывая, приступить к процедурам.
Глава 36.
В моей связи с космосом произошел сбой, во всяком случае, не смотря на все мои наговоры и уговоры, русскоговорящий гид Света так и не появилась. Зато появился Виталий, он назвался врачом-физиотерапистом и сказал, что Света заболела, он с ней разговаривал по телефону. Почему врач-физиотерапист, а не терапевт — не знаю. И почему Света-гид позвонила именно ему, а не нам или, в крайнем случае, Лене, секретарше "Медиси"? Тоже непонятно. Конечно, можно пофантазировать: "Врач-физиотерапист — это такой врач, которому обязаны звонить все гиды Светы. Почему? Это другой вопрос, и на него ответа нет".
Лена предложила график посещения процедур. Вначале я иду к Виталию со своей астмой, а жена идет к Владимиру Фридману. Потом я иду к ортопеду, а жена к Виталию. В общем, перекрестное посещение для нас весьма удобное.
Кабинет физиотераписта находился по левой стороне последним, дальше была лишь дверь на выход, к площадке автомобилей.
Я постучал, мне разрешили войти. Я вошел.
Виталий сидел за столом на фоне оригинальных плакатов — огромные ладони правой и левой рук и также резко очерченных подошв обеих босых ног. На подушечках пальцев и рук и ног были изображены схематичные лица, подобные лицам, а точнее, мордашкам на матрешках. Мордашки были испещрены точками и черточками, которые при более детальном рассмотрении оказались вонзенными в мякоть ладоней и подошв иголочками. На столе, точно на столе мага, лежали какие-то коробочки, стекляшки, линейки, циркули, бутылочки, колбочки и прочее, прочее... Окинув все это непредвзятым взглядом, я тем не менее больше всего удивился самому Виталию, вот только что беседовавшему со мной возле овальной стойки, его поведению — вставив в глаз монокль, он смотрел на меня как бы впервые.
— Садитесь к столу, напротив меня, — пригласил он.
И это было тем более странным, что стула не было. Подумалось, а он действительно физиотерапист.
— Я бы не против, но...
Виталий разжал лицевые мышцы, увеличительное стекло выпало из глазной впадины, он подхватил его на лету, указав в угол. (В углу, у входа, стояла кушетка с приставленной вплотную банкеткой: одного уровня и темно-синего цвета, они сливались, к тому же банкетка — не стул.) Мне показалось, что я "расшифровал" физиотераписта, а потому сказал, что не велик барин — постою.
В ответ он вскинул брови, то есть как-то уж очень недипломатично выразил недоумение. Впрочем, оно сейчас же сменилось отсутствием всякого выражения. С некоторой напускной ленцой встал, извинился (я не понял, за что), вышел из кабинета. Я не успел огорчиться глупостью своего положения (в чужом кабинете — один), дверь отворилась, Виталий впереди себя держал стул (теперь я понял, за что он извинился, и принял его извинение).
Он, ставя стул, посетовал, дескать, во время процедур уносят в соседний кабинет, а потом — недоразумения.
В общем, мы сели друг против друга, Виталий взял одну герметически закрытую коробочку (встряхнул возле своего уха), потом — другую. Что-то не удовлетворяло его слух, и он остановил свой выбор на плотно закрытой баночке, в которой (в белоснежной вате) находились тончайшие иголочки. Прежде чем извлечь их, попросил упереться левой рукой (локтем) в стол и ладонью вверх держать перед ним. Да, еще он одарил меня дезинфицирующей салфеткой — пока он извлекал иголочки, я продезинфицировал обе ладони. Затем Виталий взял мою выставленную руку в свою и весьма долго, словно маг-хиромант, изучал линии на ладони.
— Может, надо через монокль, — посоветовал я и сжал челюсти, чтобы не улыбнуться.
Он коротко взглянул на меня. Я выдержал взгляд. Он успокоился. Из каких-то невидимых пор выплыла ленца, мягкое обволакивающее облачко, в негу которого Виталий окунулся и, явно блаженствуя, сделал несколько плавных, как бы в замедленной киносъемке, движений. Мне показалось, что в этой длящейся плавности ему представлялся некий аристократизм, усыпляющий пациента. Не знаю, почему он решил, что быть увальнем — то же самое, что быть аристократом? Впрочем, могу допустить, что таким же образом, например, удавы гипнотизируют свою жертву. Во всяком случае, физиотерапист вдруг замер, тем не менее облачко не остановилось, оно уплыло и растаяло, оставив как бы очищенную от мякоти косточку.
Да-да, ленца исчезла, а Виталий остался — резко очерченный, напряженно сжатый, он теперь более всего напоминал спортсмена на старте. Как говорил Владимир Семенович Высоцкий: "Разбег, толчок..." Впрочем, относительно разбега — не знаю, а внезапный толчок ощутил. Выдохнув слово "бифуркация", физиотерапист вонзил в основание моего большого пальца две острейших иголочки. Возле них выступили капельки крови.
— Не обращайте внимания.
Потом еще были иголочки, так что мои пальцы, в конце концов, стали напоминать своеобразных матрешек американской статуи Свободы.
— Судя по всему — ваш метод лечения нетрадиционен.
— Естественно, это древнекорейская медицина — Су джок. Объясняя, что посредством иголочек он воздействует на нервные окончания, которые находятся в неразрывной связи с внутренними органами, он был так важен, так надувал щеки, что казалось — кого-то пародирует. И все же, когда сообщил, что точка в основании большого пальца (в нее он вонзил две иголочки) — есть точка бифуркации, ответственная за правильное функционирование легких (в этой точке переплетались нервы трахеи, разделяющиеся на два бронха) — я поверил ему, то есть методу лечения — Су джок.
Василий Зюганов — врач-ортопед. Его кабинет — справа у входа, следующий за кабинетом человека в кипе. Или, как негласно назвали, помполита, помощника по политической части заведующего "Медиси". Однако кто у кого в подчинении — трудно сказать, если учесть, что и я в должности первого помощника капитана по политической части был наделен правом писать характеристику на капитана-директора. Именно поэтому нас, первых помощников, в угоду революционной традиции, чаще называли, особенно в парткомах, комиссарами. Думаю, и здесь при всей профессиональной компетентности Владимира Фридмана, вряд ли за ним было последнее слово в оценке политической благонадежности того или иного сотрудника. Более того, предполагаю даже, что кабинет Василию Зюганову потому и выделили с одной стороны через стенку с профессором, а с другой — с ихним "помпой". Зюганов — он что, родственник лидера КПРФ, скрывающийся в Израиле?
Василий Зюганов отмел родство, они с женой и двумя детьми приехали четыре года назад из Донецка. Там у него и родители остались. По линии жены все здесь, в Израиле, в их семье она — паровоз, по жене — национальность детей, отношение к ним окружающих. А он что?..
Вася Зюганов, врач ортопед, вынужден был уехать потому, что как врач он не мог прокормить свою семью, а у него еще старенькие родители. Сейчас, слава Богу, всякими путями оказывает поддержку им. Для Василия главное на сегодня — сдать переаттестацию, набрать как можно большее количество баллов по квалификации, от этого напрямую зависит и уровень заработка, и уровень всевозможных льгот. По сути, он для того здесь и практикует, что уровень медобслуживания в "Медиси" чрезвычайно высок. Они с Виталием, как говорится, в производственном тандеме: один занимается лечением и профилактикой посредством иглоукалываний, а другой — использует массаж.
Надо отдать должное Василию, беседуя, он не забывал попросить то выпрямиться и вытянуть руки, то наклониться и сесть, то пройти несколько шагов и подпрыгнуть. Несколько раз простукивал ребра, то есть производил тщательное визуальное обследование, в результате которого сделал заключение, что у меня смещены два позвонка и деформировано правое плечо (оно выше левого). Он подвел меня к зеркалу и предоставил возможность убедиться. Так что, не откладывая, он тут же и занялся лечебным массажем или, как он сказал, исправлением моего опорно-двигательного аппарата.
Кабинет у Василия был большим, но (благодаря шторам, отсекающим рабочий письменный стол и кресло) и достаточно уютным. На стене (почему-то не возле стола, а возле кушетки) висели фотографии. На одной из них, помещенной в центре, были сфотографированы Василий и Андрей Шевченко, знаменитый футболист сборной Украины и итальянского "Милана".
— Ничего себе — Шевченко! Он что, бывал здесь?
— Да, представьте себе — месяца три назад. "Шева" на иврите — семь.
— Ничего себе! — опять восхитился я.
— А у меня тут один был из СНГ, какой-то знаменитый химик, представляете, даже возмущался — подумаешь, Шевченко, золотая голова! Я, конечно, промолчал, но обидно стало.
— Не обращайте внимания, Андрей Шевченко — великий футболист.
Я ему напомнил, что по Шопенгауэру слава и здоровье — высшие богатства. И еще некоторое время мы обменивались "афоризмами житейской мудрости", так что расстались вполне довольные друг другом.
Глава 37.
Самое сильное впечатление произвел Дэвид, так сказать, помощник помощника по политической части. Конечно, политика, как таковая, не имела значения — Дэвид числился фельдшером кабинета дерматологии, которым заведовал человек в кипе. Единственное политическое дело, известное нам — поимка араба, продавшего нам кремы, улучшающие пигментацию кожи. Или, как сказал Дэвид, "способствующие отложению в организме пигмента меланина".
Произошло это так. Жена ждала меня возле кабинета Василия. Лена, секретарша, куда-то отлучилась, и сразу же появился молодой человек с пакетом, наполненным банками и баночками с кремом. Указывая на баночку или банку на витрине, он сейчас же доставал из пакета — идентичную и предлагал по цене значительно меньше выставочной. Видя сомнение моей жены, молодой человек показал визитку — он заведующий аптекой.
Впоследствии жена рассказывала, что он так свободно ориентировался в "Медиси", что она подумала — их аптека обеспечивает кремами и лекарствами все центры, подобные "Медиси". Она решила, что у него так дешево потому, что препараты без наценки посредников. Словом, она купила несколько баночек и банок с мазями и кремами, единственная загвоздка — не хватило денег, и она попросила его подождать меня.
Заведующий аптекой показал на часы, дескать, подойдет к нашей комнате, когда мы освободимся. Ее немножко озадачило, что аптекарь уже и комнату знает, но тут вошла Лена. Красноречиво удивилась присутствию молодого человека в стенах "Медиси", на что молодой человек, ничего не сказав, поспешно удалился. Возможно, ничего бы и не случилось, не попроси жена пакет для купленных кремов. (Дальше все развивалось стремительно, как в захватывающем детективе.)
Пробегая мимо жены Лена, взвизгнув, воскликнула, кивнув на стоящие на скамейке банки и баночки:
— Боже, все это вы купили у него?!
Она ловко проскользнула между стеной и стойкой и оказалась в своем компьютерном полукруге, то есть на своем рабочем месте. Наверное, она надавила на спецкнопку. Во всяком случае, в кабинете ортопеда "заныл" такой частоты зуммер, что за шторой в тон ему стали отзываться стаканы на стеклянной столешнице.
Я уже было выходил, задержался в дверях, но Василий, извиняясь, поторопил. Он буквально выскочил в гостиную. Навстречу нам бежал высокого роста широкоплечий мужчина. Запомнились длинные пряди черных волос, зачесанные назад, с пробором посередине. Огромные черные глаза, смуглая кожа, прямой нос, лоб с глубокой вертикальной морщиной, рассекающей переносицу и еще — распахивающиеся за его спиной двери коридора, по которому он бежал.
Мы, опасаясь столкновения, невольно опять попятились назад, внутрь кабинета. Когда он пробегал мимо жены, Лена что-то сказала ему и, словно ужалила, он аж подпрыгнул! Его устрашающе гукающий топот пронесся по медцентру и стал удаляться по коридору, стушевываясь за захлопывающимися дверями, наконец, стих.
Немногочисленный медперсонал высыпал из кабинетов. Лена в нескольких словах обрисовала картину, назвав по имени так называемого аптекаря. И опять на это имя каждый среагировал, как на укус осы. Начался, как говорится, стихийный "разбор полетов".
— А вы, знаете, что мы не можем вам дать гарантии качества приобретенных вами медпрепаратов, — с профессорской щепетильностью сказал заведующий "Медиси" Владимир Фридман.
Возникла пауза. Жена покраснела... иногда она вот так краснеет, как школьница. Какая все-таки ерунда эти их заморочки, — подумал я и нарочно так встал и загородил жену, чтобы "их заморочки" касались меня одного.
— Ничего страшного, у нас к вам нет никаких претензий, — ответил я заведующему "Медиси".
И опять возникла пауза. Человек в кипе что-то сказал секретарше, она подала ему журнал, он о чем-то попросил ее и удалился в свой кабинет.
Владимир Фридман вопросительно посмотрел на Елену, она сказала, что дерматолог попросил передать Дэвиду (здесь впервые услышал это имя), чтобы после всего зашел к нему. Вот в этом "после всего", как мне показалось, Владимир Фридман уловил для себя нечто знаковое. Стал не то, чтобы наседать на меня, — втягивать в разговор:
— Ну, знаете, "никаких претензий", — так тоже нельзя!.. Непротивление злу насилием для таких, как этот, так называемый аптекарь, чаще всего — лишь соблазн пожить за чужой счет, — с нотками профессорского неудовольствия резюмировал Владимир. — Причем соблазн такой, перед которым они никогда не устоят потому, что толстовскую заповедь воспринимают не более, чем слабость.
Он в качестве примера рассказал историю гибели капитана Джеймса Кука, который никого никогда не грабил, не убивал и даже не мстил людоедам, то есть относился к жителям далеких островов как к равным.
— И что же — они убили его. А когда капитан Кларк, принявший начальство над экспедицией, вступил в переговоры с вождями, чтобы они выдали тело убитого — парламентариев едва не постигла та же участь. Раздосадованный капитан Кларк приказал открыть пальбу и под защитой пушек высадил на берег роту морской пехоты. Потеснив туземцев, он загнал их в горы, а их селение сжег дотла. Только после этого гавайцы стали боязливы и послушны, и старый вождь, наконец-то, прислал на корабль десять фунтов человеческого мяса и голову капитана Кука, правда, без нижней челюсти.
— А вы что, знаете этого молодого человека с кремами? — спросил я.
— Еще бы, — ответил Владимир. — Он работал у нас в "Медиси".
Послышалось хлопанье дверей и гуканье твердых и крупных шагов. Они приближались и вперемежку с ними приближались и маленькие шажки, как бы бегущие и путающиеся в ногах,
Дверь распахнулась, в гостиную медцентра вошел широкоплечий мужчина с иссине-черными волосами, зачесанными назад и распавшимися на пробор посередине. Он держал за руку уже известного аптекаря. Увидев, что у нас тут своеобразный консилиум, насупился (глубокая складка прорезала переносицу) — выпустил руку.
В гостиной дружно заговорили на русском (мы как бы перенеслись домой, в какую-то ординаторскую), стали выяснять: как и где Дэвид поймал нелицензированного торговца? Потом спросили у нас — сколько мы заплатили за препараты?
Лена сказала аптекарю на иврите, чтобы немедленно вернул нам деньги. Он беспрекословно вернул. И вообще, он так суетливо и безропотно собирал банки и баночки в свой пакет, что мне даже стало жаль его. Думаю, если бы не рассказ профессора о гибели Кука, мы с женой какие-то кремы все же оставили себе. Сейчас же такой поступок не вязался, не вписывался в ситуацию, то есть был бы расценен как вызов.
Когда так называемый аптекарь удалился, я сказал Дэвиду (Лена была переводчицей), чтобы подобрал нам хорошие кремы и мази, мы готовы купить их. Все в "ординаторской" так понимающе переглянулись (дескать, о чем речь?!), что сразу почувствовалась атмосфера глубокого сочувствия к нам. Дэвид улыбнулся, в его глазах зажегся веселый огонек.
— Нет, не нужно, — сказал он.
И на очень плохом русском (впоследствии я понял, что он говорил на сербско-хорватском языке) стал объяснять, что кремы и мази мы возьмем позже, когда пройдем обследование и курс лечебной профилактики, проводимые для всех пациентов "Медиси".
В общем, покидая медцентр, мы почувствовали, что с его сотрудниками у нас сложились достаточно дружественные отношения. И все это благодаря Дэвиду, который "после всего" еще должен зайти к человеку в кипе — пожелаем ему удачи.
Глава 38.
Елена Федорук — сердце гостиной медцентра и в то же время живая витрина "Медиси". Впервые столкнувшись с нею, сразу же чувствуешь, что перед вами представитель не "шарашкиной конторы" с искусно иллюминированным фасадом, а медцентра настоящего, с высококлассными специалистами. И все же отдельно, вне работы, Елена не просматривалась. То есть по ней нельзя было сказать со всей определенностью — замужем она или нет? Имеет ли детей, и, если — да, то сколько? Живы ли мать, отец? И живет она с ними или отдельно?
Ничего нельзя было сказать, глядя на Лену, кроме того, что она молода, привлекательна, легка и спортивна. И так во всем — ничего лишнего. Не закрытость, а именно абсолютное отсутствие лишнего. Даже Светлана-гид, с которой мы не могли встретиться из-за ее болезни, а потом встретились в "Медиси" (по правде сказать, место встречи, выбранное ею, нас озадачило) рассказала нам в первую же встречу гораздо больше, чем Лена за все время нашего многодневного общения.
Впрочем, иногда в присутствии сотрудников отлаженная система сбивалась, появлялось нечто такое, что свойственно компьютерам, когда они "загрязняются" неточностью исходящих вопросов и требований. Компьютер еще не "повис", но одно, два неточных нажатия на клавиши и — все, придется вынужденно "сушить весла".
После завтрака я пришел в "Медиси" на иглоукалывание, Лена попросила меня подождать. Я подошел к плакату и вдруг увидел в конце коридора нашу Светлану-гида, живо беседующую с физиотерапистом. Не знаю, о чем они беседовали, но Виталий буквально купался в своем обволакивающем облачке. Ладно, перед нами аристократничаешь, мы — твои пациенты, но зачем перед ней — недовольно подумал я о физиотераписте и, садясь на скамейку, чтобы не видеть беседующих, вслух сказал: "Су джок". Сказал просто так, без всякого умысла, как резюме на внезапную мысль. Но Лена оторвалась от компьютера, изумленно воззрилась на меня.
— Что же делать, если он действительно ее суженый.
Теперь изумился я ("компьютер" ответил на вопрос, который я не задавал).
— Он что — ее муж? А она — жена? Лена вопросительно приподняла брови.
— Что же — удивительного?
Она опять погрузилась в компьютер.
И еще бывали случаи, когда присутствие сотрудников, как бы не требующих ее внимания и в то же время надеющихся на него, выбивали Лену (скажем так) из колеи. В ее поведении вдруг обнаруживалось столько лишнего или личного, что могло дать пищу любому воображению. Особенно заметно это случалось с появлением заведующего "Медиси".
Владимир Фридман, как я уже говорил, плотный мужчина моложавой наружности, лысоватый и чисто выбритый, был профессором-урологом, преподававшим в Санкт-Петербургском медицинском институте. То есть в своей области Владимир был светилом.
Однажды я пришел на его процедуры немного раньше. Владимир сидел на табуреточке возле проема между стеной и полукругом стойки. Он не смел тревожить Лену — она занималась с компьютером и между тем как сиротинушка ждал, когда она обратит на него внимание.
Но оказывается, она уже давно знала, что он здесь, возле овала стойки, на своей табуреточке. Принтер, утробно рыкнув, мигнул большим зеленым зрачком, и из зева выполз исписанный стандартный лист бумаги. Лена почти на лету подхватила его и, чуть-чуть улыбаясь, подала профессору.
О Господи, никогда не забуду, как он обрадовался. Весь засветился, словно внутри зажглась лампочка на триста ватт.
— Я забыл, совсем забыл!.. Ну что ж, с меня причитается, - самодовольно изрек профессор и посмотрел на Лену с такою щепетильной признательностью, с какою позволяет себе смотреть интеллигентность, доподлинно понимающая цену услуги.
Лена не то чтобы смутилась, она несколько раз надавила не на те клавиши и компьютер "повис". Она не смогла погрузиться в него, но не огорчилась, а с радостным удивлением, отпрянув, улыбнулась, но как бы и не заведующему "Медиси", а "скисшему" компьютеру, однако при этом так многозначительно взглянула на профессора, что в ответ он прямо-таки озарился внутренним светом. И все же и в это мгновение заведующий оставался заведующим (сыграл житейский опыт или самоконтроль). Коротко взглянул на меня, потом — в глубину коридора. Опустил взгляд, со строгой тщательностью сложил лист, спрятал в портмоне.
— Пожалуйста, прошу-с, — как-то чересчур официально пригласил в кабинет.
Кабинет не такой просторный, как у Василия, но такие же отсекающие шторы. Прямо перед входной дверью кушетка, поднимающаяся и опускающаяся, как кресло стоматолога. В углу, слева, письменный стол — на нем всевозможные аппараты, в том числе и часы со звуковым и световым сигналами.
Я лег на кушетку, профессор приспособил у меня на пояснице какие-то свинцовые пластины и попросил, по возможности, не шевелиться. Затем, включив аппарат, поинтересовался: есть ли пощипывание в области свинцовых пластин. Получив утвердительный ответ, он обычно умолкал до конца процедуры. Я полагал, что так будет и сейчас, но — нет. Переполненный эмоциями, виновницею которых была явно Елена Федорук, он вдруг поинтересовался — как мое давление? Он имел в виду мою жалобу, которую я высказал перед назначением процедур.
Оказалось, что профессор может помочь мне. Южнокорейцы придумали аппарат, который называется по-русски "автоматический контроль кровяного давления", что не совсем точно потому, что этот аппарат за счет равномерного распределения статичного электричества восстанавливает формальное кровяное давление. К сожалению, аппарата нет, чтобы продемонстрировать. Был тут у Владимира пациент из Петербурга, какой-то генеральный директор знаменитого завода (он не сказал какого), взял опробовать аппарат и не вернул. А все потому, что никакие лекарства не помогали ему, а аппарат помог.
— Любые деньги давал, но я что же?!
Профессор даже голосом подобрался, дескать, что же он?! Словом, Владимир пообещал поинтересоваться возможностью приобретения через какую-то фирму. Кстати, производство аппарата относится к высоко технологичным и экспортируется только в Израиль.
Вообще большинство бесед с профессором, а точнее, все беседы проходили, как правило, после его бдений на стульчике, когда так или иначе Лена одаривала заведующего "Медиси" пусть не прямым, пусть косвенным и даже мимолетным, но выделяющим именно его, Владимира, вниманием. В такие минуты что-то переворачивалось в профессоре, он прямо на глазах молодел, становился добрым и даже готовым к самопожертвованию.
Однажды он поведал, что живет в Араде, где-то в двадцати километрах от "Хайат", это немного, другое дело — дом на горе, а работа — на четыреста метров ниже уровня моря. Большой перепад давления — это для здоровья не очень хорошо. Но ничего, сейчас главное — поставить в доме современный обогрев, так сказать, сдвоенную услугу: летом — кондишен, а зимой — тепло.
Я сказал, что в нашей квартире, кроме обычного водяного отопления, мы поставили кондиционер воздуха со сплит-системой: охлаждение, осушение, нагрев — японской фирмы SANYO. Владимир Фридман переспросил название фирмы, какое-то время молчал, а потом вдруг стал рассказывать, как он жил в Санкт-Петербурге.
— Хотите — верьте, хотите — нет, а я перед отъездом в Израиль получал до двенадцати тысяч американских долларов.
— Неужели в месяц?! Это же фантастическая сумма.
— Разумеется, в месяц, — подтвердил Владимир. — Прошу не забывать, что я был далеко-далеко не последним хирургом, — самодовольно констатировал он.
И опять вернулся к своему дому в Араде, в котором вместе с ним проживает мать. Не скрою, мне хотелось бы узнать, кто из родственников остался в России, но спрашивать я не посмел. Он как-то вскользь сказал, что месяца четыре назад был в Санкт-Петербурге, но ему не понравилось — чересчур грязно и запущенно все. Нет, он ни за что не вернется в Санкт-Петербург.
Не знаю почему, но вскользь упомянутая поездка натолкнула меня на мысль: профессор Фридман приезжал в Россию с надеждой вернуться. Быть может, в Петербурге остались жена, взрослые дети, которые за два года отсутствия уже смирились с его отъездом. А тут появился он — мужчина-добытчик, еврей с положением (несомненно, когда-то он был с положением). У него стали просить, а возможно даже требовать деньги. Без любви, без формальных прав, а только — дай, дай!.. И он, по приезде признавшийся нелюбимой жене, что скоро вернется назад, в Россию, на самом деле на этот раз просто сбежал в Израиль. В эту тихую заводь, называемую медцентр "Медиси", в которой, конечно, нет тех денег, но и нет опостылевших лиц с пресловутым — дай, дай!.. А есть молодая привлекательная секретарша Лена, которая доставляет ему радость уже тем, что она есть.
Впрочем, все это лишь мои фантазии в связи с поразившей меня реакцией на наш японский кондиционер воздуха со сплит-системой и на упоминание вскользь о его недавней поездке в Санкт-Петербург.
Глава 39.
Дэвид — крупный черный мужчина. Именно черный, а не смуглый. Во всяком случае, в памяти остается черность. Виною, как я уже говорил, цвет волос и — кожи, у которой не шоколадный оттенок, а вороний. Впрочем, запоминающуюся черность легко объясняют и его глаза — как угли. Как бы там ни было, а Черный Дэвид, как мысленно называл его, ассоциировался с неким официальным представителем власти, если хотите, воинствующим стукачом. А тут еще, перед тем как идти к нему, физиотерапист Виталий назначил не иглоукалывание, а сверхнетрадиционное лечение...
На глаза надевалась маска, как бы для виртуальной игры, но взору представала не игра, а залитые как бы зеленым пламенем окуляры. Все это происходило в абсолютно темной комнате, так что те, кто служил в армии, непременно обнаружат почти стопроцентное сходство маски с прибором ночного видения. Да-да, все предметы в зеленом цвете трепетали, как флаги. Вначале сжимался один окуляр (диафрагма), потом другой, потом они, наконец, сжимались вместе и появлялся звуковой сигнал. Во время процедуры полагалось лежать с широко раскрытыми глазами и ни в коем случае не мигать.
В общем, после прибора "ночного видения" идти к Дэвиду, как к секретному агенту, было особенно неприятно. К тому же при своем отвратительном русском он пытался заговаривать со мной, причем о политике. И зачастую в своих вопросах бывал до того настойчив, что мне, чтобы избежать международного скандала, приходилось "сворачивать свои уши в трубочку" и прикидываться сущим азиатом, дескать, "моя твоя не понимай!".
И вот в один из дней после "военной процедуры" я зашел в кабинет к Дэвиду. В прихожке стоял пластмассовый таз с водой, подключенный к электросети. Рядом — простейшая кушетка с креслом, небольшой письменный стол со стулом и проходная дверь в следующий кабинет (больше похожий на лабораторию — стеллажи, колбы, химические стаканы, мензурки, микровесы, гирьки, пробирки и прочее, прочее).
Я снял обувь, по обыкновению, поудобней уселся в кресло и, опустив ноги в таз, нажал на кнопку "включение". Таз стал вибрировать и, естественно, мои ноги в нем. Зуммер, прозябать, зябнуть — что-то похожее происходило в моих ступнях. Я уже знал, что эта процедура продлиться не более пяти минут, пока вода в тазу не станет молочного цвета. Потом я вытру ноги хлопчатобумажным мягким полотенцем и, улегшись на кушетку, буду ждать Дэвида, который специальной мазью, напоминающей домашнюю крестьянскую сметану, с грубой бесцеремонностью намажет мне ступни и заставит лежать, пока мазь не впитается.
Впрочем, ждать никогда не приходилось. Как только начинал вытирать ноги — тут же появлялся Дэвид. Он и сейчас появился, словно по расписанию. Огромный, черный, с большими руками, зачерпнул горсть мази и давай размазывать по ступне: вначале одной, потом — другой. Ступни выскальзывали из рук, он крякал, опять зачерпывал горсть мази...
Уж не буду повторять его плохой русский и картавость. Скажу только, что есть люди, в которых обычные национальные черты обозначены с такой избыточной яркостью, что они невольно вызывают неприятие, воспринимаются, как национальные недостатки, хотя и не являются таковыми.
Помнится тысяча девятьсот восемьдесят восьмой год. Праздник славянской письменности и культуры в Великом Новгороде. Мы сидим в ресторане "Детинец". Старинные каменные стены, винтовая лестница, деревянные, выскобленные колосниками столы, лавки, медок в глиняных кувшинах на узорно вышитых салфетках и скатертях. И девушки подстать: в ярких сарафанах и сказочных коронах. Ни дать, ни взять — Василисы Прекрасные. Глядя на них, поневоле заговоришь о своем, национальном. А тут еще гости: из Петрозаводска, Киева, Кишинева — отовсюду, что и говорить — Праздник! Присутствующие стали вспоминать о своих национальных особенностях, о своих девушках-красавицах, и только паренек из Петрозаводска сидел себе, медок попивал.
— Аки Каури-Кекконен, ты бы что-нибудь рассказал, — попросил я его на правах хозяина-новгородца.
— А что рассказывать, — ответил Аки Каури-Кекконен. — Я — финн.
И опять оприходовал полную кружку медовухи. Мы переглянулись, мол, не хочет участвовать в общем разговоре — и не надо. Ну, финн и финн, а я — русский, какая разница?! Пришло время рассчитываться, девушка-официантка принесла на блюдечке счет. "Красота! — радуюсь я за культуру в Великом Новгороде. — Все, как в лучших домах Лондона!" И вдруг, тяжело пошатываясь, поднимается Аки Каури-Кекконен. Хватает скатерть, а на ней: глиняные чугунки, блюдца, кувшины... и со всего маху рывком — на себя.
— А-а, дак я — фи-инн!!!
А сколько нас, русских, с пресловутым: ты меня уважаешь?! Так и здесь — Дэвид уже не Дэвид, а фарисей. Умный гад, сейчас спрашивать начнет: кому какую подать платить? И тут не ответишь: "Отдай кесарю кесарево, а слесарю слесарево". И до того неприятно стало, что пасую, "скручиваю уши в трубочку", прикидываюсь бестолковым — зачем?! В конце концов, мое мнение — это мое мнение, пусть знает. А он уже тут как тут — интересуется:
— Как вы относитесь к войне в Югославии?
— Сугубо отрицательно. Знаю, что израильтяне во всем поддерживают американцев, только я — не поддерживаю. Война идет не против Милошевича, а против Югославии, хотят стереть ее с карты Европы. И — сотрут. И во всем обвинят сербов, этот маленький воинственный народ, который служил цементом, связывал воедино все народы Югославии. Но пусть не думают предатели сербского народа, что все им сойдет с рук. Не сойдет. Если США начнут попирать установления Организации Объединенных Наций, — с этой организацией никто не будет считаться. ООН рухнет и погребет под собою все свои решения, в том числе и решение о создании арабского и еврейского государств в Палестине. Да-да, есть Божий суд.
... Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
После столь грозной филиппики Дэвид сидел за столом в глубочайшей задумчивости, словно роденовский "Мыслитель". Я хотя и был раздосадован на себя, все же чувствовал и облегчение — теперь не надо прикидываться "азиатом". В общем, мою обличительную речь Дэвид оставил без комментариев. Мы расстались при полном молчании, он даже не ответил на мое "до свидания".
На следующий день Дэвид не задавал своих провокационных вопросов. И только, когда я обулся и уже хотел уйти, остановил.
— Вы знаете, я хочу преподнести вам подарок...
Ничего о подарке, разумеется, я не знал. И первою была мысль: смотри-ка ты, разволновался — очередная провокация.
Тем не менее Дэвид волновался настолько натурально, что я сказал:
— Да, я вас слушаю.
— Понимаете, я здесь в "Медиси" уже полгода наблюдаю за всеми...
Это понятно, — подумал я, — помощник помощника по политической части. Он достал из нагрудного кармана книжечку (так показалось) в весьма оригинальном желто-коричневом переплете из миниатюрных дощечек и то открывал ее, то закрывал. Да, он действительно волновался.
— И я, понимаете, все хотел преподнести этот подарок достойному православному человеку. Это подарок из рук Сербского Патриарха Павла. Моя жена сербка, она сейчас в Голландии вместе с детьми, я почти каждый день с ними разговариваю по телефону. И вот лучше вас для сербов я никого не встретил.
Дэвид с неуклюжей торжественностью вручил книжечку, которая действительно состояла из множества дощечек, стилизованных под сруб терема. На одной стороне, фасадной, был вырезан крест, покрытый не краской, а самым настоящим сусальным золотом. На другой, задней, — ничего не было (обычная дощатая стена). Зато на обрезе книжечки — три полоски из кожи, прибитые миниатюрными гвоздиками так, что она могла открываться и закрываться. Но это была не книжечка, внутри находились две иконки. На одной дощечке — Пресвятая Богородица Казанская, на другой — Святой Георгий, поражающий змея. Причем иконы выполнены на золотистом фоне и с таким колоритом сочетающихся красок, что нельзя было оторвать взгляда. Удивительно, но позади Георгия, на крупе коня, сидела маленькая женщина в длинных красных одеждах с митрой на голове и кувшином в руке.
А на самой земле, прямо у хвоста змея, был изображен еще один едва заметный помощник — крестьянин с вожжами, накинутыми на супостата. Думаю, не ошибусь, если предположу, что иконописец изобразил дорогих сердцу каждого серба народных святых, которых хотя сразу и не увидишь, но с которыми никто и никогда не одолеет нас, православных.
Дэвид несколько раз повторил, что жена наказывала — не ошибиться в человеке, потому что это — такой подарок! Да, подарок сразил меня, я думал о Дэвиде бог знает что, а он?!
— Нет, вы не ошиблись. Спаси Бог — спасибо! — сказал я в растерянности. — Для меня — это большая честь.
Глава 40.
Интересно, знаете ли вы — что такое шабат? Разумеется, суббота — выходной в Израиле. А что такое — шабаш? У Ожегова, в иудаизме — субботний отдых. И еще, в средневековых поверьях: сборище ведьм. А если перенесем ударение — шабаш? У того же Ожегова (просторечье) — то же, что баста! Все-таки в просторечье у народа и смысл точен, и ударение. Это, наверное, оттого, что когда народ у народа занимает слово, — его интересует смысл, заключенный в нем. А когда это слово попадает к академику, — тут вмешиваются какие-то другие силы. Лично для меня шабат — это еще даже не суббота, а пятница. Канун субботы (эрев шабат).
Мы спешим на ужин. Мы входим в пространство ресторана, и сразу у входа, слева, огромный стол, накрытый белоснежной скатертью, а на нем много-много свечей, мигающих, как живые звездочки. Это о них жена сказала — веселый народец.
В пятницу вечером в клубе "Хайат" звучит музыка, все освещено, все празднично. Ряды стульев загодя занимаются все прибывающими и прибывающими посетителями. Откуда они — их так много в вестибюле возле каббалы? Они из автобусов, они приезжают в отель на шабат, чтобы отдохнуть. Нам с женой это напоминает типичный для СССР дом отдыха. Массовик-затейник мечется, приехала агитбригада, он пытается отвлечь и развлечь публику, выскакивает к микрофону ("Эхад, ш'наим, ш'лоша"1...), как всегда, микрофон не работает — либо отключен, либо что-то там не контачит. Массовик отпускает по этому поводу какую-то остроту — взрыв смеха, а я начинаю подозревать, что с микрофоном все в порядке, так сказать, заготовленная острота. В руках у затейника лист бумаги, он зычным голосом знакомит, очевидно, с первым вопросом викторины. Жена сожалеет, что не знает иврита, а я — ничего. Так даже интересней наблюдать — наверное, здесь берут начало переводы "от гоблина".
Наконец, агитбригада готова, массовик ретируется, выходит конферансье, читает стихи — аплодисменты. Объявляет следующий номер — песни, пляска. Все это перемежается со сценическими постановками — посадка деревьев, цветов. Изображение злых суховеев и девушек с кувшинами, с которыми танцует какой-то весьма страстный молодой человек с козлиной головой, но в овечьей шкуре. Он чересчур энергичен, прыгает так, что, столкнувшись, едва не сбивает с ног нескольких партнерш.
Молодой человек напоминал комсомольского работника. И еще, глядя на него, приходила на ум библейская заповедь, требующая умения отделять овец от козлищ, которая впервые показалась довольно-таки трудновыполнимой.
Вообще весь концерт был среднего пошиба, в подобных комсомольско-студенческих агитбригадах я сам участвовал (выезжали на далекие полеводческие станы во время уборочной). Наши концерты, в меру патриотичные и развлекательные, всегда пользовались успехом, потому что с утра до вечера занятые добыванием хлеба насущного крестьяне ничего другого и не видели. Не буду утверждать, что отдыхающие в "Хайат" тоже ничего не видели, но убежден, что в обычные, рабочие дни им приходится "пахать" не хуже наших крестьян. А куда денешься, такова жизнь.
В Израиле одному дельному человеку приходится кормить несусветное количество бездельников, которых с каждым годом становится все больше, — говорит экономический аналитик Александр Этерман. В цивилизованной работающей семье у нас — полтора ребенка, в неработающей — восемь. Причем, как в арабской, так и еврейской. А в ультраортодоксальной семье их зачастую даже больше, и главное, они совершенно уверены, что общество просто обязано их содержать. Лет двадцать назад в ультраортодоксальных школах училось семь процентов детей, сейчас — двадцать два. В цивилизованном мире работают восемьдесят четыре процента мужчин наиболее трудоспособного возраста, в Израиле — шестьдесят девять, и эта цифра снижается.
Словом, посетив концерт художественной самодеятельности в отеле "Хайат", мы с женой заметно помолодели. А если без шуток — нам понравилось исполнение патриотических песен. В том, что они патриотические, мы догадывались по униформе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в которую с удовольствием облачались не только юноши, но и девушки. Уже одно только, что они в форме, вызывало у зрителей прилив энтузиазма: все в зале начинали аплодировать. То же самое происходило, когда по сцене пробегал юноша с государственным флагом Израиля. А когда исполнялась песня со словами "Ха тик-ва1 ми шнот аль-па им", зал дружно подпевал: "Э-рэц Ци-он ви-ру-ша-ла им". И зрители, и самодеятельные артисты становились единым целым.
Я не хочу вбивать клин между евреями, оставшимися в России и покинувшими страну, точнее, между покинувшими и — еще непокинувшими. Тут разница небольшая (практически ее нет). Другое дело — евреи, уехавшие в Израиль, и те, кто уехал в Западную Европу или Америку. Тут отличие разительное.
Первые — патриоты, считающие смыслом жизни, пусть в борениях, но отстаивание своей исторической Родины, своего суверенного государства. (Больше такого шанса может не быть.)
Вторые — космополиты, искренне считающие, что на всей планете — там твоя Родина, где тебе хорошо. Среди вторых, как правило, борцы за права человека, борения которых плавно перетекают в борьбу за свои личные права и — наоборот.
Впрочем, мне интересны первые, мы живем среди них.
Суббота, шабат — выходной в Израиле. Шведский стол — нам некуда спешить. Зал полон — некоторые столики сдвинуты вместе, как это делается и у нас в дни коллективных празднеств.
Напротив нашего стола как раз такой стол — из трех состыкованных. За ним человек десять мужчин, большинство представительных: в кипах и темно-серых в полоску костюмах. Раздобревшие и раскрасневшиеся от обильной пищи и выпитого вина, они несколько раз порывались запеть, но им, очевидно, запрещали подбегавшие официанты. Наконец, один из них, более всех раскрасневшийся и вспотевший (поминутно промокал лоб салфеткой), положив кисть руки на плечо рядом сидящего товарища, будто и не было никаких увещеваний официантов, вдруг запел. Песня показалась какой-то заунывной и длинной, но в припеве с повтором, когда начинали подпевать товарищи, становилась боевитой и даже залихватски веселой.
Солист и товарищ, на плечо которого он водрузил руку, смотрели на нас с такой неотрывностью, что нам надлежало либо запеть вместе с ними (что было бы самым правильным), либо не обращать на них внимания.
Запеть мы не могли, но и не обратить внимания тоже. Не получалось. Попивая кофе, мы попытались вести светский разговор, так сказать, непринужденно беседовать. Однако какая может быть непринужденность, если чуть оторвешься от чашечки — на вас пялятся в четыре глаза. И при этом поют с такой заунывностью, будто волокут тебя по бесконечной пустыне. Или еще того не лучше (во время припева) — глаза в глаза с залихватской боевитостью.
Не допив кофе, мы с женой удалились. Когда вставали из-за стола — солист с товарищем самодовольно переглянулись и, кажется, в припеве прибавили еще больше какой-то необоснованной веселости.
В вестибюле жена сказала:
— Нахалы!..
Я не согласился, попытался объяснить, что то же самое испытывают евреи, татары, латыши, армяне и так далее и так далее, когда внезапно попадают на наши истинно русские праздники.
— Да-да, наши песни, наши частушки... далеко не всем по вкусу.
— Но мы у себя дома.
— И они у себя дома. Уверяю, если бы мы сейчас стали подпевать им, — все было бы по-другому. Они непременно пригласили бы нас к себе за сдвинутые столы и приняли бы нас, как дорогих гостей.
Я привел несколько примеров из нашей жизни, когда армяне, латыши, евреи садились за наши праздничные столы и вместе с нами и пили, и пели: и наши песни, и наши частушки, — и мы не отличали их от себя, то есть отличали лишь как дорогих гостей.
— С другими не знаю, а эти двое — явные националисты. Вспотевшие, раздобревшие от выпитого и съеденного, ты видел, с каким превосходством и радостью они пялились нам вслед?
— Да видел, — сказал я. — Точно так же и мы пялимся, когда уходят с нашего праздника. А что тут оскорбительного?
— А то, что в глазах сияло прямо-таки торжество — ага, уходите?! И уходите!
— Именно — и уходите! А мы остаемся, нам некуда идти — мы дома, у нас — шабат.
— В общем, ты поддерживаешь националистов?
— Причем тут националисты?! Каждый народ имеет право иметь своих национальных поэтов, художников, композиторов, петь свои национальные песни, словом, иметь свою самобытную культуру. А то, как у нас еще недавно — все поголовно были атеистами. Ни у тебя нет никакой культуры, ни у него, ни у меня, стало быть, мы — братья навек. Оказалось, нет, не братья — люмпены. А люмпенам нечего терять, вот и разошлись в разные стороны. А если бы у нас была культура: и у него, и у меня, и у тебя — мы бы не разошлись. Зная, как трудно она дается каждому народу, мы были бы полны уважения друг к другу. И какой же тут национализм?!
В общем, мы сошлись, что евреи в Израиле и мы, русские, в России очень похожи. По сути, неотличимы. А евреи здесь даже более русские, чем мы, потому что мы — в гостях, а они — дома.
Глава 41.
Яков Раппопорт — директор туристической фирмы в Израиле. Мы уже были наслышаны от зава "Медиси" Владимира Фридмана, что Яков — умнейший человек. Понимая, что доктор "и сам с усам", то есть личность нерядовая, я предполагал увидеть этакого "человека в себе", этакого "трансцендентного философа-герметика", застегнутого на все пуговицы. Кроме того, жизненный опыт подсказывал, что в милитаризованной стране такую должность вряд ли государственные спецслужбы доверят простому обывателю. Правда, присутствовало некоторое сомнение, что Владимир Фридман, хваля Якова Раппопорта, всего-навсего подхалимничал, понимая, что "нет ничего тайного, что не стало бы явным", тем более для спецслужб! Так сказать, тоже исходил из своего житейского опыта — как-никак, а мы оба родом из СССР.
Яков Раппопорт приехал на японском микроавтобусе ровно в десять. Ни раньше, ни позже — как договорились. Он был одет в потертые джинсы непонятного цвета, рубашку с длинными рукавами и поблекший зеленоватого цвета жилет со множеством карманов. Если бы мне предложили определить по одежде и внешнему виду его профессию и род деятельности (плотно сбитый — под метр восемьдесят, а то и больше, неторопливый в движениях, круглолицый — глаза голубоватые с дымкой, кажется, что он о чем-то думает или созерцает накопившуюся усталость), — я бы, не задумываясь, сказал, что перед нами журналист, побывавший в "горячих точках".
Вместе с Яковом, директором туристической фирмы, приехал Михаил Голубь (он сидел за рулем микроавтобуса). Естественно, мы не предполагали, что он тоже начальник — владелец автопарка по обслуживанию туристических и других фирм. Но факт остается фактом, в крепость Масада мы с женой поехали в сопровождении двух начальников. Почему? Можно придумать массу ответов и, наверное, достаточно правдоподобных. Скажем, поехал один начальник и увлек другого. Но вот почему увлек?
Мне представляется, что ответ на этот вопрос как раз и является искомым.
Крепость Масада, находится в двадцати с небольшим километрах от отеля "Хайат". Можно было бы даже сказать, что она находится на берегу Мертвого моря, если бы ее не отделяла автострада, пролегающая по побережью. Нам с женой дважды довелось проезжать мимо крепости. В первый раз, когда ехали из Эйлата в Иерусалим (на Рождество Христово), а второй — когда отправились сюда, в отель "Хайат". Скажу откровенно, оба раза она производила на меня гнетущее впечатление — огромная скала, похожая на надгробие. Но не буду забегать вперед — ничего невозможно понять, не зная хотя бы некоторых мгновений того времени (73-й год от Р. Х.).
Вот что сообщает нам непосредственный участник Иудейской войны историк Иосиф Флавий:
"После смерти Басса прокураторство в Иудее принял Флавий Сильва. И видя, что вся страна в ходе войны покорена и только одна крепость все еще остается в руках восставших, он выступил против нее со всем имевшимся в тех местах войском. Называлась эта крепость Масада, а предводительствовал занявшими ее сикариями влиятельный муж Эльазар, потомок Йехуды, который, как мы упоминали ранее, убедил многих евреев воспротивиться переписи, в то время когда Квириний был послан цензором в Иудею. Так и теперь сикарии восстали на тех, кто желал подчиниться римлянам, и во всем относились к ним как к врагам: они преследовали их повсюду, имущество грабили, а жилища предавали огню. Ведь ничем не отличаются от иноземцев, — говорили они, — те, кто так постыдно предал с таким трудом завоеванную евреями свободу и решился предпочесть ей римское рабство.
... Вообще, то время у евреев было наполнено всевозможными злодеяниями, так что не было ни одного дурного дела, которого бы они не совершили. И даже если бы кому-то пришло в голову только измыслить что-нибудь новое, то и этого нельзя было бы сделать. И в частной, и в общественной жизни все были заражены этой болезнью и стремились превзойти друг друга как в преступлениях перед Богом, так и в несправедливостях к ближним. Стоящие у власти причиняли зло простому народу, а те в свою очередь старались извести правителей. Ибо первые желали угнетать, а последние — бесчинствовать и грабить богатых. Прежде других обратились к беззаконию сикарии... "
Что ни говорите, а налицо революционная ситуация — верхи не могут, а низы не хотят. Как бы там ни было, а представив, что в древней Иудее произошла революция, немедленно становится понятным все: и жестокость сикариев, и их патриотизм, и даже кто они такие в нашем современном понимании. Да, они — революционеры. Это их лозунг "Чем хуже, тем лучше!" почти две тысячи лет спустя использовали большевики. "Гибнут невинные мирные люди? Прекрасно, тем легче свалить все на эксплуататоров трудового народа". Словом, как у сикариев все методы были хороши для восстания против римлян, так и у большевиков — против самодержавия. Впрочем, как оказалось — не все. Насилие породило насилие — гражданскую войну, страшнейшую из болезней, когда сын поднимался на отца и брат — на брата.
Но вернемся к крепости. Какою она была? Вот что сообщает Иосиф Флавий.
"Скалу немалого объема и значительной высоты со всех сторон окружают ущелья недоступной для взгляда глубины и кручи, повсюду недостижимые ни для одного живого существа, кроме разве двух мест на скале, позволяющих не без труда начать восхождение. Есть две дороги, одна из которых поднимается от Асфальтового1 озера к востоку, и, двигаясь таким образом с запада, по ней сравнительно просто пройти. Другую дорогу называют Змеей, вследствие ее тесноты и многочисленных извивов. При подъеме она вьется по выступам утеса, часто поворачивает вспять, затем снова немного вытягивается и таким образом едва-едва продвигается вперед. Тот, кто пробирается этой дорогой, должен попеременно твердо ставить то одну, то другую ногу. Со всей очевидностью он может представить себе свою гибель, ибо со всех сторон зияют глубины ущелья, способные ужасностью своей смутить любую отвагу. Прошедший по этой дороге тридцать стадий достигает, наконец, вершины, которая заканчивается не острием, но образует плоскость. Здесь первым заложил крепость первосвященник Йонатан и назвал ее Масадой. Затем укреплением этого места весьма усердно занимался царь Ирод".
Все верно, с тех пор (напомню: 73-й год от Р. Х.) мало что изменилось. Во всяком случае, зияющие глубины ущелий действительно смущали нашу отвагу, и мы со всей очевидностью (не дай бог, лопнет трос фуникулера, на котором мы поднимались на вершину скалы) легко представляли свою неминуемую гибель.
"... Царский дворец он выстроил у западного входа под стеной, окружавшей вершину, с фасадом, обращенным на север. Стена дворца была очень высокая и мощная и имела четыре угловых башни шестидесяти локтей каждая.
Разнообразным и роскошным было убранство внутренних комнат, галерей и бань. Повсюду были возведены колонны, сработанные из цельного камня, стены же и полы в комнатах были украшены каменной мозаикой. Возле каждого жилища, на высоте вокруг царского дворца и перед стеной он вырубил в скале множество вместительных хранилищ для воды, с тем расчетом чтобы они могли обеспечить то же количество, что и источники...
Имевшиеся внутри припасы еще более поражали своим количеством, а также способностью храниться. Там было в избытке хлеба, которого могло хватить надолго, а также вина и масла; стручковых плодов и фиников там тоже было в изобилии. Когда Эльазар вместе с сикариями хитростью овладел крепостью, он застал все это в полном порядке и не нуждающимся в обновлении, хотя со времени заготовления этих припасов до римского завоевания прошло сто лет. Да и римляне оставшиеся плоды нашли неиспорченными. Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что причиной столь длительной их сохранности является воздух, который на такой высоте не содержит в себе никаких нечистых земляных примесей. Кроме того, было найдено большое количество разнообразного оружия, припасенного царем, которого хватило бы для десяти тысяч человек, а также необработанные серебро, медь и свинец. Все эти приготовления были сделаны ввиду серьезных причин. Говорят, Ирод приготовил для себя эту крепость как убежище, ибо подозревал две опасности: прежде всего — со стороны еврейского народа, который мог свергнуть его и вернуть на престол прежних царей. Но большая и серьезнейшая опасность грозила ему со стороны египетской царицы Клеопатры. Она не скрывала своих намерений и постоянно обращалась к Антонию с требованиями убить Ирода и подарить ей Иудейское царство. Опасаясь всего этого, Ирод и построил Масаду, которой впоследствии суждено было стать последним оплотом евреев в войне с римлянами".
Конечно, от былых строений остались лишь живописные развалины, но и они впечатляли. Разбитые колонны и арки галерей, стены, выступающие из земли, вывороченные плиты лестниц и голые камни фундаментов когда-то жилых помещений — во всем этом была какая-то нездешняя величественность и неприступность. Стайки туристов, встречающиеся нам, производили двоякое впечатление. С одной стороны их ощутимое присутствие напоминало, что мы в турпоходе, а с другой — одинокие молчаливые фигуры, отрешенно созерцающие руины, создавали иллюзию внезапной катастрофы и потерянности. Переносили нас в многовековое прошлое.
"Разве кто-то не знает, каковым будет гнев римлян, если они возьмут нас живыми? Несчастные юноши, которым их телесных сил достанет на длительные мучения; горе старикам, возраст которых не способен к перенесению страданий. Кто-то увидит, как поведут насиловать его жену, услышит крик своего ребенка, призывающего отца, связанного по рукам. Но пока эти руки свободны и держат меч, пусть сослужат они нам верную службу. Умрем же не порабощенные врагом! Уйдем из жизни свободные вместе с женами и детьми. Так повелевает нам Закон, и об этом умоляют нас жены и дети...
В итоге никто не оказался малодушным для деяния столь дерзкого. Все умертвили ближайших родственников одного за другим... и, избрав по жребию из своего числа десять человек, будущих своих убийц, покрыли собственными телами лежащих на земле жен и детей, обхватив их руками и предоставив исполнителям оказать им эту ужасную услугу.
... Они погибли в убеждении, что ни одной живой души не останется в руках у римлян. Но оказалось, что какая-то старуха и еще одна женщина... а также пятеро малолетних детей спрятались в подземном канале, доставлявшем питьевую воду. Число же остальных, пожелавших умереть, считая с женщинами и детьми, составило десятьсот шестьдесят человек. Это ужасное событие совершилось в пятнадцатый день месяца ксантика.
Римляне в ожидании сражения рано утром были наготове и, наведя мосты от земляных насыпей к подступам, приступили к штурму, но, не увидев ни единого из врагов, а вместо этого повсюду гнетущее опустошение, в крепости пожар и безмолвие, недоумевали, что могло произойти. Наконец, они издали боевой клич, как при начале штурма, ожидая, не вызовут ли тем самым ответных действий изнутри. Крик услышали женщины и, выйдя из подземелья, принялись рассказывать римлянам о том, как это произошло. Причем одна из них в подробностях описывала все, о чем уже было сказано, и каким образом это было совершено. Римляне почти не обратили на нее внимания, поскольку не верили в такое величие их подвига. Они принялись тушить пожар и вскоре, проложив себе дорогу через огонь, оказались во внутренности дворца. И когда они наткнулись на множество убитых, то не испытали чувства как при виде врагов, но поразились благородству решения этих людей и их несокрушимому презрению к смерти при исполнении собственного замысла".
Ничего этого мы, к сожалению, не знали при посещении крепости, тем более в подробностях. Пробродив около трех часов по ее развалинам, взгоркам и спускам, мы попросили Якова Раппопорта где-нибудь присесть, отдохнуть. Яков опять вывел нас на вершину, к огромной пустоши, которую царь когда-то оставил под пашню на тот случай, если станет невозможным доставлять пищу извне. И мы устроились на каком-то каменном холмике. Внизу — синь равнины, сливающаяся с морем. Вверху — солнце, купающееся в бездонной сини, а где горизонт — непонятно, кажется, что повсюду одно нескончаемое небо.
— Наверное, защитники Масады, находясь здесь, чувствовали себя ангелами, — сказал я.
— Наверное, потому что были и остались ими, — ответил Яков, причем с такой твердостью, которая исключала даже легкие сомнения.
Мы с женой переглянулись, не находя объяснений его словам.
— Вы что же, не знаете, как погибли защитники крепости? — удивился Яков.
Он рассказал нам о добровольной гибели воинов, женщин и детей. И когда рассказывал, — его глаза застилала паволока голубая-голубая, как дымка над Мертвым морем. А слова Эльазара, предводителя защитников, Яков прочел как бы с листа:
"Пусть жены наши умрут неопозоренными, и дети наши — не изведавшими рабства. И вслед за ними окажем и мы друг другу достойную милость, сохранив тем самым свободу, как величественное себе надгробие. Но прежде и имущество наше, и всю крепость пускай истребит огонь. Я прекрасно знаю, как будут огорчены римляне, если не овладеют нами и обманутся в своих надеждах на добычу. Мы оставим только съестные припасы, ибо после нашей смерти они будут свидетельствовать о том, что мы были побеждены не нуждой, но, как и решились с самого начала, предпочли смерть рабству"
Яков посмотрел на полосу моря, которое теперь казалось выпуклым и изумрудным. И мы, уступая ему, тоже посмотрели. И тут я увидел внизу два флага: один государственный, бело-голубой со звездой Давида, а другой — ярко-зеленый, указывающий: зона заповедника, охраняемая государством. Они развевались на ветру, чуть-чуть касаясь земли. Но это так казалось, потому что строение археологов, а именно над ним развевались флаги, стояло в глубокой ложбине.
В каком-то необъяснимом порыве я снял фотоаппарат и попросил Якова снять нас с женой на фоне флагов.
А потом мы спустились на фуникулере и на посадочной площадке купили открытки с видами крепости Масада. А в машине, возвращаясь в отель, сделали заявку на поездку на Иордан — приближался Праздник Богоявления. Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Возле отеля, поблагодарив Якова Раппопорта и Михаила Голубя за совместную поездку, и, уже зная, что в Израиле крепость Масада — больше, чем крепость Масада, и именно поэтому мы были удостоены высокой чести (два начальника сопровождали нас), я сказал, что в предстоящей поездке нам — достаточно водителя.
Глава 42.
Святые места в Израиле на каждом шагу. Старозаветная и Новозаветная традиции переплетаются, и события наслаиваются одно на другое. Перед поездкой на Иордан мы основательно изучили карту паломников, на которой обозначены святые места, известные со времен Старого и Нового Заветов. По карте от Галилейского моря до Мертвого — немногим более ста километров. Однако и на этом, в общем-то, небольшом расстоянии указаны два места, где Иисус был крещен Иоанном-Крестителем. А так как государственная граница между Израилем и Иорданией пролегает ровно по течению реки (что весьма небезопасно для омовений паломников), то израильтяне уже в наше время выделили и оборудовали третье место — там, где Иордан вытекает из котловины озера Кинерет или, что одно и то же, Галилейского моря.
Микроавтобус и на этот раз пришел ровно в назначенное время. И, к нашему удивлению, нас опять встретил Яков Раппопорт, а за рулем — сидел Михаил Голубь.
— Куда поедем?
Мы объяснили ситуацию. Нам сообщили из Москвы, что сегодня впервые (за последние годы) Израиль и Иордания открыли границу как раз там, где, по преданию, Иисус был крещен Иоанном-Крестителем. То есть нам, паломникам, разрешили омовение непосредственно в Иордане и непосредственно на историческом месте, где крестился Бог. Однако таких мест — два.
Какое из них выбрано согласно христианской традиции?
— Израиль — не Россия, в течение часа успеем все места посетить, — утешил Яков.
Мы попросили сосредоточиться на месте возле моста Абдуллы, рядом с городом Иерихоном. Но Михаил Голубь предложил, не сворачивая, сразу проехать к другому месту — за мостом Адама. Дескать, то место более древнее, сто восемьдесят один раз упоминается в Ветхом Завете и пятнадцать — в Новом. Кроме того, если промажем, меньше времени уйдет на поиски — он там бывал.
Мы согласились, но попросили по пути заскочить в какой-нибудь из магазинчиков, чтобы мы могли купить белые ризы — крестильные рубашки для омовения (полотняные, длинные, едва ли не ниже колен). Яков и Михаил пообещали, мол, никаких проблем, возле места омовения в любом бутике их возьмем.
Пейзаж за окном автобуса был довольно-таки однообразным. По обеим сторонам дороги — желтая пожухлая трава, мертвый серый кустарник, верблюжьи колючки; даже странным было, что рядом, всего в двух-трех километрах от дороги, несет свои вечные воды Святой Иордан. Тем не менее настроение у всех было приподнятым. У нас — потому что Праздник. А у наших гидов — потому что все складывалось, как они считали, достаточно удачно. Особенно их радовало, что мы не религиозные фанатики. Яков сказал, что когда узнал, что мы паломники — в ужас пришел. Думал, будем без конца молитвы читать и, крестясь, биться лбом о землю. Ну, в общем, как в известной пословице, а мы оказались нормальными людьми.
И еще были другие комплименты, которые не буду повторять только потому, что таковыми их не считаю. В самом деле, ну какая наша заслуга в том, что кто-то загодя составил о нас предвзятое мнение, а оно не оправдалось? В другой ситуации тут можно было бы даже предъявить претензию, мол, на каком основании, сударь, вы позволили себе подумать подобное?! Единственное, что мы приняли на свой счет — корректное поведение во время посещения крепости Масада (не в пример нашей первой встрече: и Яков, и Михаил в общении теперь были более раскованными). Между нами стали складываться доверительные отношения. Например, Яков рассказал, что уехал из СССР еще мальчиком, в 1970 году. Какое-то время они (их семья) жили в США, потом переехали в Тель-Авив. Восемь лет Яков отслужил в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). И хотя детские воспоминания самые яркие, все же многое уже забылось. Однако когда я сказал, что русский язык тем не менее он не забыл, и, как говорится, знает его — дай Бог каждому, Яков ответил, что в том нет ничего удивительного, русский — его родной язык.
В сравнении с Яковом Михаил Голубь приехал в Израиль недавно, на излете горбачевской перестройки. Уже в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году в Киеве он занимался частным извозом, имел несколько легковых автомашин. А здесь — еще более развернулся. Живет Михаил в Ашдоде (быстрорастущий порт, третий по объему перевозок после Тель-Авива и Хайфы), там у него свой дом, семья (жена и двое детей — девочки). Чувствовалось, что Михаил крепко стоит на ногах и своим положением доволен.
— Однажды приехала делегация туристов из России, я их вожу по Иерусалиму, что знаю, рассказываю.
Михаил поднял голову над баранкой, так ему было удобней следить за дорогой, он небольшого роста — крепыш.
— Мне, как водителю, что больше всего бросилось в глаза, когда я приехал в Израиль? Хорошие дороги, перекрестки, развязки. Вот я и говорю нашим из России — обратите внимание, в Израиле все перекрестки освещены. Ну, освещены и освещены, ездим по музеям, паркам, выставкам. В общем, неделя прошла, туристы собрались домой, я решил спрямить путь — повез их в аэропорт через пригород Иерусалима. А там выезд из-под моста и — на перекресток, а он неосвещен. Я рулю, слышу, по плечу хлопает меня один из туристов, такой представительный, похож на большого чиновника.
— Что же это вы, братец, утверждали, что все перекрестки в Израиле освещены, а этот как же?!
Недовольно постучал указательным пальцем по стеклу, да так — словно мне по лбу.
— Представляете?! Оказывается, целую неделю поездок он не отдыхал, а неустанно следил за освещенностью перекрестков.
За такими вот беседами или разговорами "ни о чем" мы, наконец, приехали к предполагаемому месту Крещения.
Увы, никаких магазинчиков, никаких строений, вообще ничего — голое место.
Михаил Голубь изумленно пожал плечами, мол, странная метаморфоза — когда-то здесь что-то было. Что именно? Мы выяснять не стали — не у кого.
Однако надо возвращаться. И поторопиться — уже одиннадцатый час. Решили, что к озеру Кинерет всегда успеем.
Возле нижнего моста Абдуллы остановились, Яков зашел на КПП, в магазинчик. Вернулся расстроенный — белых риз нет.
— Вот как, — удивился я. — А что же вы, братцы, утверждали, что все перекрестки освещаются?!
Ни Яков, ни Михаил на мою остроту не среагировали, то есть среагировали наоборот — помрачнели. Яков предупредил, что если свернем с главной дороги и поедем к месту Крещения (Вифавар), то покупку крестильных рубашек он не гарантирует — больше никаких магазинчиков не предвидится.
Вмешалась жена, отозвала в сторону — она захватила с собой два махровых белоснежных полотенца, может, как-нибудь обойдемся?
Мы сообщили о своем решении ехать к месту Вифавар — к озеру Кинерет — потом.
Микроавтобус свернул на второстепенную дорогу, и мы поехали непосредственно к Иордану.
Дороги в Израиле замечательные и основные и второстепенные — все асфальтовые. Однако так не всегда было. Вот что по этому поводу пишет Герман Мелвилл...
"Иудея — сплошное скопище камней. Каменистые горы, каменистые равнины. Каменные потоки, каменные дороги. Каменные стены, каменные поля. Каменные дома, каменные надгробия. Кажется, что глаза и сердца жителей тоже высечены из камня. Впереди, позади — сплошные камни. Камни направо и камни налево. Кое-где предпринимались мучительные попытки очистить поверхность земли от камней. Местами красуются кучи булыжников. Стены невероятной толщины возводились не столько из соображений обороны, сколько для того, чтобы освободиться от камней. Напрасно. Стоит сдвинуть с места один камень, как под ним обнаруживается другой, еще больших размеров. Это напоминает начинку старого амбара: чем больше выгребаешь гнилья, тем обильнее оно появляется...
Бытует поверие, будто здешние дороги строятся к пришествию евреев. Когда депутация шотландской церкви гостила в Иудее, сэру Моузесу Монтифьору было указано на выгодность найма беднейших евреев для выполнения этих работ. Приближение пришествия и удаление камней с дороги одновременно".
Мрачный юмор, но только до тех пор, пока не взглянешь на дату и год написания "Дневника... ". Тут уже невольно пробегает мороз по коже: рассуждения о пришествии евреев и строительстве ими дорог воспринимаются как сбывшееся пророчество. (Герман Мелвилл закончил писать "Дневник... " шестого мая тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года, то есть почти день в день ровно за девяносто лет до решения ООН о создании арабского и еврейского государств в Палестине.)
Глава 43.
В местечке Вифавар главное строение — храм Иоанна Крестителя. Над ним развевается греческий бело-голубой полосатый флаг. Храм не достроен, зарешеченные квадраты окон зияют пустотой. Однако колокол в звоннице уже установлен. И все же внешне храм напоминает древний замок. Зубчатые стены на фоне желтых холмов, словно бойницы. Над звонницей (ротонда в восточном стиле) — обзорная башенка. А вокруг, по всему периметру, — железные колья двойного ограждения из колючей проволоки и одинокий греческий монах, смотрящий строго на восток. Черная риза развевается на ветру — это дыхание пустыни.
"В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои". (Евангелие от Матфея, 3, 1—6).
"Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (там же, 3, 13—17).
Огромная площадь перед храмом Иоанна Крестителя вся заставлена: автобусами, микроавтобусами и всевозможными автомобилями. Мы, так сказать, припозднились, но не огорчились, напротив, обилие техники и людей свидетельствовало, что на этот раз мы — у цели.
Михаил припарковался с трудом, приткнулся между автобусами.
— Вы идите, а я останусь. Если автобусы поедут раньше — придется маневрировать.
Михаил высказал сожаление, что мы подъехали к стоянке не с той стороны. Но, что делать, не возвращаться же на автостраду! Впрочем, его сожаление не коснулось нас.
Мы вышли из микроавтобуса и словно попали в иное измерение. Широкая вьющаяся дорога и толпы людей: мужчины, женщины и дети все спешат вниз, к реке. Иногда по дороге проносятся военные "джипы" и легковые автомашины с флагами каких-то конфессий или миссий. Все это похоже на сбор демонстрантов накануне демонстрации. Мы вливаемся в общий поток, то есть по тропке выходим на общую широкую дорогу, огороженную рвами. Досаждает ветер, приходится застегивать ветровки и натягивать головные уборы. Яков подавлен, он не скрывает, что все это ему как-то дико, он не ожидал встретить здесь такое множество народа.
Белое небо, скудная растительность и голые желтые холмы (некоторые искусственного происхождения — на них стоят наблюдательные вышки) — вот все, что открылось взору. Тем не менее в отличие от Якова мы с женой воодушевлены, кажется, что ноги сами несут к Иордану.
Дорога в очередной раз сворачивает. Огораживающих рвов больше нет, с обеих сторон несколько полос ограждений из колючей проволоки. Особенно устрашают пространства, которые заполнены стальными самозатягивающимися кольцами. Кажется, их называют кольцами брунно.
Теперь мы идем по зеленому коридору. И это тем более справедливо, что зеленая мелкоячеистая сетка отделяет нас не только от ограждений из проволоки, но и от минных полей. По сути, мы идем по зеленому коридору через минные поля. Впереди коридор сужается, а поверх изгороди такие же холмы или горы, покрытые редким серым кустарником, издали напоминающим кочки.
Перед самым Иорданом еще одна пустошь. Она кажется очень маленькой, но это потому, что до отказа запружена народом. Подход к крутому берегу огорожен трубчатыми стойками и перилами, над которыми натянут матерчатый навес.
Возле перил обосновались греческие монахини. Дородные, в черных балахонистых ризах и каких-то круглых чеплашках, они напоминают весьма важных матрон. Даже не верится (кажется странным и неправдоподобным), что они беседуют между собою подобно базарным кумушкам.
С трудом минули их — протиснулись к лестнице, спускающейся к воде. Уже наслышанный об Иордане, я предполагал увидеть его маленьким, не впечатляющим, заросшим камышом и кустарником. Я и увидел его таким, и все же ошибся — Иордан впечатлял. Впечатлял всем, что я увидел, то есть и кустарником, и сочно-зеленым камышом, цветущим роскошными метелками, и водой — водой, бегущей живым потоком как бы без берегов. Но больше всего поражал наклон камыша — против течения. Течения быстрого, глубинного. И еще под каждым кустиком, веточкой, листиком я увидел лица — сонм человеческих лиц, цветущих, как лилии. Такое не бывает без участия Бога. Я словно бы услышал шаги Идущего: шорох песка и шелест тростника колеблющегося; плеск воды и звенящее хлопанье крыльев. И вдруг все мое тело сжалось, уменьшилось или возросло, — стало единым сердцем.
— Простите меня, простите нас, — сказал я людям, тесно сидящим на ступенях лестницы, спускающейся к реке.
Я ждал, что они, как всегда это бывает, когда тревожат их не вовремя, начнут недовольничать, ругаться во след. И чтобы хоть как-то внутренне защититься, решил держать в поле зрения живой поток. И тут что-то произошло с глазами, они отяжелели, и я увидел, что Иордан не внизу, а вверху. И люди привстали на каменных ступенях, чтобы помочь мне взойти к нему. И я сделал свой шаг...
Глава 44.
Не имея специальных одежд для омовения, мы вынуждены были искать укромное место, чтобы раздеться. Нам пришлось довольно долго пробираться по берегу, потому что, как я уже говорил, под каждым кустиком, под каждой веточкой находились такие же, как и мы, верующие. Наконец, в камышовых и пальмовых зарослях мы остановились и, не мешкая, разделись.
Жена вытащила полотенца, а я, сложив нашу одежду в пакет, передал его на хранение Якову.
Вид у Якова, при всем его напускном равнодушии, был затравленным: он не понимал, где он и зачем он?
Впрочем, его можно было понять. Начальник турфирмы — парки, музеи, театры. Известный контингент — соплеменники. Места исторических раскопок, библейские предания, наконец, действующие храмы, не столько как святыни, сколько как реальные свидетельства архитектуры прошедших эпох. И вдруг, по сути, в чистом поле, у реки, собрались тысячи и тысячи людей в убеждении, что именно здесь, приняв омовение, был крещен Бог.
Люди раздеваются, чуть ли не донага, а ветер холодный, пронизывающий. Но это только еще больше прибавляет им решимости повторить действия Бога, которые Он совершил две тысячи лет назад именно сегодня. Да-да, главное — сегодня! Потому что у Бога иное время: что сегодня, что вчера, что две тысячи лет назад, все это — один день, а может, мгновение.
Яков потрясен, он затравленно озирается, потому что ничего не знал о Крещении Бога. То есть знал, но не понимал, не сталкивался с живой христианской традицией. Перед ним другие люди — даже немножко страшно.
— Мой вам совет, — сказал я, посмеиваясь. — Когда прибегут фанатики, чтобы расправиться с вами — вытащите из пакета фотоаппарат, это их отпугнет. А заодно и нас сфотографируете на манер папарацци, чтобы мы не видели.
Кажется, шутку он оценил, заулыбался. Мы вместе достали фотоаппарат, и я показал, как пользоваться трансфокатором, удаляющим и приближающим на сто двадцать метров.
Уж не знаю, сколько нам пришлось ждать, но пришлось. Мы стояли на ветках валежника, плотно накрытого камышом, как на естественной циновке. Но все равно было зябко, потому что ноги были по щиколотки в воде и еще досаждали порывы ветра, налетающие с противоположного берега, на котором, с неким даже нахальством, расположились два иорданских броневика желто-песочного цвета. (На одном из них был расчехлен крупнокалиберный пулемет, правда, повернутый в безлюдную сторону, кроме того, самих солдат нигде не было видно.)
Защищаясь от ветра, мы вначале накинули наши белоснежные полотенца на плечи, а потом и на голову. Наверное, их белизна послужила своеобразным опознавательным знаком — притягивала людей. Во всяком случае, вокруг нас стали располагаться не только паломники, но и фото-, телерепортеры (весьма отличительный народ — не замечающий своей навязчивости). Впрочем, мы ни на кого не обращали внимания, главным было — не прозевать процессию священников, выходящих к Иордану. Одна из паломниц с Украины подсказала нам, что с началом Богослужения арабы-христиане, которых здесь множество, начнут выпускать голубей — тогда-то вместе со всеми, принимающими Крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, и мы начнем омовение, омовение во Святом Иордане.
В самом деле, православных христиан здесь было предостаточно. Шумно смеясь и проваливаясь в воду, к нам пробралась группа юношей явно арабского происхождения. Празднично одетые, причесанные, с голубями за пазухой они остановились возле нас. Мы с женой обрадовались их появлению (слава Богу, докучающее внимание фото-, телерепортеров они приняли на себя), попытались потесниться на так называемой циновке, но валежник внезапно разошелся, и я с головой ушел под воду в гущу камышей.
Вода, конечно, была холодной, очень холодной, но по воле провидения, именно в момент, когда я ушел под воду, началось Богослужение. Жена бросилась в воду, мне показалось — меня спасать. Поэтому, когда она ныряла, я изо всех сил подныривал под нее и, насколько мог, выталкивал из воды. Я опасался, как бы она не утонула, запутавшись в камышах. А тут еще православные горячие юноши стали выпускать голубей и в своих чистеньких кофейных костюмах с гиканьем и смехом прыгать в воду. (Иногда они довольно чувствительно пинались ногами.) Но больше всего мне досаждали фото-, тележурналисты. Только я показывался над водой, чтобы вдохнуть воздуха, как в глазах начинало рябить от вспышек фотоаппаратов, наставленных прямо в лицо.
В общем, началась катавасия. Естественно, я считал, что это никакое не омовение, а купание: у нас с женой вынужденное, а у юношей — из солидарности к нам. И только выбравшись на берег и накинув на голову, подобно шалям, свои махровые полотенца, которые жена предусмотрительно повесила на пальмовый куст, я увидел, что Иордан вокруг нас буквально кипит от омовений паломников.
Мы решили немного погреться, а потом уже без спешки и суеты окунуться еще раз. Смыть грехи, как говорится, осмысленно возродиться для новой духовной жизни. Пока мы на корточках отогревались, из воды вылезли горячие православные юноши. На них нельзя было смотреть без улыбки. Молоденькие кобчики, не то чтобы мокрые — слегка ощипанные. Глядя на нас, они тоже улыбались и в подражание нам присели на корточки. Их поведение напомнило поведение христиан-бедуинов в храме Рождества с одним, пожалуй, отличием — в своем подражании они не рассчитывали на получение благодати Святого Духа. Единственная цель, которую они преследовали, — не выглядеть смешными. Но именно таковыми выглядели.
Помнится тысяча девятьсот семьдесят четвертый год, Сингапур. К нашему морозильному рыболовному супертраулеру "Давыдов", стоявшему у причала завода малый "Кеппел", пришвартовался минный тральщик "Kil-12", занимавшийся разминированием Бангладешских портовых акваторий. Его появление вызвало большую прессу (пассажиры с теплоходов валом валили поглазеть на тральщик), а все потому, что название вполне мирного судна "Килектор-12", сокращенное до слова "Кил", звучало на английском весьма устрашающе, то есть как судно, намеревающееся убивать двенадцать раз.
Не будем забывать, что это было время, когда за рубежом очень много говорилось о Солженицыне, его "Архипелаге ГУЛАГ", в котором он показал государственную систему уничтожения людей в СССР.
Так совпало, что в Сингапур приехали звезды балета: группа артистов из Большого театра и ленинградского Кировского. Естественно, они узнали из газет о нашем "тральщике-убийце" и решили пригласить на концерт членов команды, а тут рядом мы, "давыдовцы". В общем, и нас облагодетельствовали. Выдали нам билеты бесплатно, как сейчас помню, на розовой бумаге, с пятого по пятнадцатый ряд, причем все места с краю, а цена по тем временам просто фантастическая — тридцать долларов. У импресарио одна единственная просьба к нам:
— Не жалейте рук, аплодируйте, сейчас здесь только вы — наши!
Мы, конечно, понимали, что крайние места подобраны нам не случайно, но не находили вразумительного объяснения — цена-то на всех билетах была одинаковой.
Сингапурский национальный театр в смысле архитектуры своеобразен, особенно зал, в котором шло представление. Начиная с пятого ряда стены отсутствовали — редкие поддерживающие колонны по всему полукружью периметра. Мы — в театре, а рядом ветви деревьев, вписывающиеся в интерьер. Легкий ветерок, сцена и весь наш восьмой ряд, как на ладони, — хорошо! Я даже поначалу подумал, что крайние места нам выбраны с учетом отсутствия стен, мол, мы народ северный, неприхотливый. Оказалось, ничего подобного, по ходу балета выяснилось, что сингапурцы в балете ни бум-бум, ничего не понимают — полнейший некопенгаген! Они следили не столько за событиями на сцене, сколько за нами, чтобы аплодировать вовремя — вот для чего нам предоставили места в каждом ряду и попросили не жалеть рук.
Что-то подобное сквозило и в поведении арабских юношей-христиан. В общем подражая, они составили нам довольно-таки веселую компанию. Может быть, виной тому и чрезмерное внимание фото-, тележурналистов. Во всяком случае и те и другие оставили нас в покое только лишь, когда мы стали одеваться.
— Надо же, какая бесцеремонность, — сказал Яков.
Он уже хотел подойти и вмешаться, но сдержался — пресса! Потом греха не оберешься. И еще он сказал, что мы сами виноваты, накрыли головы белыми полотенцами, словно молитвенными покрывалами (талит) — так делали омовение Сара и Авраам. (Я поблагодарил за комплимент.)
Мы полагали, что выбираться из котловины Иордана нам будет намного проще — проторенный путь. Не тут-то было. Острые ветки сухого валежника, режущие листья камыша и молодых пальм, наконец, омовение в холодной воде — все это прибавило не только нам, но и всем паломникам неуемного желания поскорее подняться на поляну, под матерчатые навесы. Возле лестницы сгрудилось так много народа, что, прилагая усилия невпопад, люди гроздьями срывались вниз и, подмяв стоящего насмерть беднягу, образовывали очередную кучу малу. Мне и самому пришлось дважды побывать в роли бедняги. А что сделаешь?! Не было никакой возможности увернуться на столь ограниченном пространстве. (Ладно — ушибы и ссадины, жилы бы не порвать.)
Уже на поляне под навесом мы опять попали в свалку. Нам помогли подняться израильские пограничники. И кстати, я чувствовал изрядно намятые бока. Чтобы прийти в себя, мы присели на капот чьей-то легковушки и Яков, как настоящий папарацци, сфотографировал нас с нашими спасителями, вооруженными до зубов.
Пора было бы на этом и закончиться нашим приключениям, но верный договору Михаил Голубь повез нас не в отель, а к Галилейскому морю. Уставшие и разомлевшие в тепле салона, мы немного вздремнули. А когда Яков сказал: "Приехали" и пригласил пройти в магазин, чтобы купить крестильные рубашки, мы вновь испытали чувство радостного подъема.
Мы приобрели белые крестильные рубашки в Иорданите, и они произвели на нас очень сильное впечатление. Белые, льняные, с тесемками на шее и иконкой на груди, они действительно олицетворяли духовное возрождение и чистоту.
На иконке Иисус Христос стоит по колена в воде, канонически скрестив руки, а над Ним ниспускающийся голубь, в трех небесных лучах Славы Бога Отца. С одной стороны от Иисуса — Иоанн Креститель, а с другой — прислуживающие ангелы на облаке. А поверх Его святого нимба надпись на старославянском — "Крещение Господне".
В общем, крестильные рубашки были как раз такими, какими и представлялись нам. Даже надпись на этикетке "Made in Holy Land" (сделано в Святой Земле) умиляла до слез. Жена сейчас же выразила желание немедленно ехать к Иордану на то место Крещения, где обычно совершают омовение, когда граница закрыта. И мы поехали.
Однако долго ехать не пришлось, Израиль небольшая страна и под стать — его моря. Протяженность Галилейского моря или озера Кинерет всего двадцать один километр, ширина — двенадцать. Но более всего удивляет глубина — сорок восемь метров, и это при том, что само Галилейское море находится ниже уровня моря на двести десять метров. Во всех справочниках его называют крупнейшим резервуаром пресной воды — все это так, но помимо всего, именно на берегах Галилейского моря происходили многие из евангельских событий.
"Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях" (Евангелие от Матфея, 4, 18—23).
Да, именно здесь Христос встретил рыбаков, ставших апостолами: Петром, Андреем Первозванным, Иаковом, Иоанном. Да, именно здесь Он ходил по воде. И именно здесь Он накормил двумя рыбами и пятью хлебами пять тысяч голодных.
Мы подъехали к поселению Кинерет, оно на берегу Иордана, вытекающего из моря, но и само Галилейское море вот оно — рядом. Какая разительная перемена! Деревья большие, разлапистые: платаны, миндаль... а кустарник — уже известная Виалета Египетская и похожий на искусственный вечнозеленый бересклет. И повсюду — повсюду буйно разросшаяся растительность сильна и свободна, а осторожное прикосновение к ней человека почти незаметно.
Дендропарк — малахитовая вода, холмы, покрытые густым ярко-зеленым газоном; густые заросли деревьев и вода — воистину живой источник. После скудной желто-серой растительности Иудейской пустыни глаза отдыхают.
Мы с женой спускаемся к Иордану. Берег выложен крупными выпуклыми голышами и железобетонными плитами. Повсюду в воде металлические поручни и цепи ограждений. После Вифавар легко представить, как много здесь бывает народа. Но сейчас мы одни, даже Яков остался в микроавтобусе. Впрочем, это даже хорошо. Не торопясь, разболоклись, надели крестильные рубашки и, взявшись за руки, вошли в воду.
Вода холодная, но мы идем медленно, потому что плиты слишком скользкие. Благо, металлические стойки, цепи и перекладины, очевидно являющиеся ограждениями выгородок для различных конфессий и сект, абсолютно свободны, — мы держимся за них.
Одна плита, вторая, третья — перед нами обширное пространство воды. Жена показывает на заросли.
— Видишь, там — белая крытая галерея или плотина? Слышишь, характерный шум воды?
— Нет, без очков не вижу. А шум, может быть, это шум листвы?
— Давай, дальше не пойдем, — предлагает жена.
— Но мне тут всего по пояс?!
— Тогда я тоже пойду, — решительно заявляет жена.
Я останавливаюсь и осторожно, чтобы не поскользнуться, поворачиваюсь к ней. Она, опережая, спрашивает:
— Скажи мне, что ты видишь?
— Вижу блюдечко с посиневшей каемочкой. Ну, что — окунаемся? На счет "три" — три раза подряд, — говорю я и беру ее за руки.
— Да, со зрением у тебя совсем плохо, — констатирует жена, и я чувствую, что ее начинает бить озноб.
Мы трижды окунулись и, что удивительно, озноб прошел. Она тут же позабыла о нем, будто его и не было.
Мы потихоньку "поплыли" назад.
— Не понимаю, как так можно — увидеть блюдечко с голубой каемочкой, а наливное яблочко не приметить?!
— Хорошо, тогда скажи: а что ты видишь?
— Вижу, что дураки, верящие в Бога, — уже не дураки. А умные, не верящие в Бога, — дураки.
Я хотел сказать, мол, боюсь, что мы в данном случае, первые и последние, так сказать, "альфа и омега". Но, слава Богу, внезапно выглянуло солнце и малахитовое зеркало Иордана стало настолько изумрудно-радостным, что я ни с того ни с сего вдруг заорал благим матом:
— Вижу, вижу наливное яблочко!
Чем привел жену в неописуемый восторг.
А потом мы заехали в поселение Магдала (Магдалина) и в ресторане "Далья" ели весьма вкусно приготовленную рыбу Святого Петра, которой, по утверждению Якова, и поныне предостаточно в озере Кинерет.
Глава 45.
На следующий день, по уговору с женой, я преподнес Дэвиду коробочку с золотой хамсой. (Внутри колечка подвешена ладонь, в которую вделана голубая крошка камушка эйлата). Жена, смеясь, рассказала, что видела, как Дэвид всем показывал подарок, радостно цокал языком — дорогой!
Впрочем, на следующий день не все было столь приятным. На процедуре у Владимира Фридмана (без всякой задней мысли) я сказал, что, ложась на живот, испытываю чувство дискомфорта. Причем это иногда и раньше бывало, но после вчерашних людских свалок на Иордане ощущение дискомфорта стало как-то острее, что ли. К моим словам профессор отнесся, как мне показалось, чрезмерно серьезно (никакой боли ни в животе, ни в паху не было). Тем не менее визуально обследовав, он тут же стал созваниваться с Тель-Авивом, с каким-то доктором Бен-Дрором, чтобы меня записали на прием к какому-то светиле.
— То, что у вас, голубчик, пупковая грыжа — нет никаких сомнений, — сказал он, как будто даже обрадовавшись. — А вот в какой она стадии?
Он этого сказать не может, надо сделать более детальное обследование с привлечением лабораторных анализов.
Видя, что я расстроился, он успокаивать не стал. Единственное, пообещал с кем-то переговорить в Араде (город в двадцати километрах от отеля "Хайат"), может, детальное обследование удастся сделать здесь, не выезжая в Тель-Авив.
Мы вышли из кабинета. Неожиданно появилась Света-гид, напомнила, что мы заказывали машину для поездки в магазин.
"Точно заказывали, хотели взять чемодан".
— Машина ждет, — сказала Света.
— Советую вам, не откладывая, присмотреть бандаж, — устраиваясь на свою табуретку, посоветовал мне профессор, он знает много случаев, когда пациенты предпочитали операции — бандаж.
Замечание профессора ввергло жену в недоумение.
— Хорошо, так и сделаю, — ответил я обрадованно, потому что действительно обрадовался. (До отъезда домой оставалось три дня и об операции даже косвенно не хотелось думать.)
Света-гид подвела нас к уже известному микроавтобусу, но вместо Михаила Голубя за баранкой сидел молодой человек лет двадцати четырех, не больше. Наверняка и микроавтобус был другой, просто цвет совпал — белый.
Молодой человек весьма живо выскочил из кабины, но потом так заметно замедлился, что показалось, почему-то устыдился своей живости.
Света познакомила нас.
— Виктор, из Ленинграда.
Он был одет в новую темно-синюю джинсовую рубашку навыпуск. Старые застиранные джинсы, предположительно, голубого цвета. И черные плоские туфли, как бы перепончатые, сорок седьмого размера.
Большеротый, узколицый и бледный, почти прозрачный, с длинными прядями волос, зализанными набок, он напоминал птенчика, выпавшего из гнезда. Еще ни о чем не говорили с ним, а его уже было жалко. Вместе со Светой, покашливающей с подскребом, они были — как брат и сестра.
Мы решили, что Свете ехать не надо, ведь главное в нашей поездке — магазины. А на смотровой площадке, с которой видны пещеры древних поселений, Виктор пообещал остановиться. В общем, мы поехали без Светы.
Смотровая площадка не произвела на нас впечатления, точнее, вид с нее на долину Мертвого моря. С крепости Масада вид был более впечаляющим. Нас заинтересовала скалистая Воронья гора, поднимающаяся с площадки. Самое удивительное, что на ее вершине действительно сидели и даже похаживали вороны. Вся гора была буквально исписана туристами, причем масляной краской. Выходило, что большинство "писак" специально везло ее с собой, а стало быть, загодя планировало свою надпись. Тем более поражала "глубина мысли", как говорится, без остатка укладывающаяся в прокрустово ложе — "Здесь был Вася!". Хотя, возможно, это издержки жанра.
Во впадине между большими горами бросились в глаза миниатюрные хребты гор. Обычно их изображают такими — и, как правило, коричневыми, на географических картах. Здесь же хребты были, в основном, белыми. Прямо под нами светлела скала, похожая на раскоп древнего замка, арочные входы в пещеры напоминали лунки для гольфа. С нашей стороны раскопа стояли огромные вечнозеленые деревья, они напоминали семейку ежиков. Вдруг подумалось: а ведь в этих местах ходил Иисус Христос, благословлял эту Землю, поэтому она и Святая. С трудом спускался и восходил по песчано-каменистым тропам, а мы — там и сям за день. Невольно обожгло: выходит, мы — как боги, а Он — как человек! То есть Он больше человек, чем мы, нынешние?! Сердце сжалось и отяжелело: такого не должно быть, что-то с нами не так...
Арад — в основном двух- и трехэтажные дома, некоторые с плоскими крышами, а потому воспринимаются как недострой.
Виктор подъезжает к площади, в центре которой — одинокая пальма с побуревшими листьями. Площадь вымощена крупными бетонными плитами, между которыми, на швах, кустится пожухлое будылье, — все это придает ей какой-то нежилой, неряшливый вид.
Виктор останавливается, сдает назад — припарковывается. Судя по плакатам и книгам в витрине, мы подъехали к книжному магазину. Конечно, чемодана здесь не купить, но и отказать себе в удовольствии порыться в книгах невозможно, тем более что под натиском интеллектуалов дверь почти не закрывается.
Интеллектуалы — в основном старшеклассники. Всюду русская речь. Магазин, может, и невелик, но ассортимент разнообразен — специальные справочники и словари буквально сметаются с полок. Очень много мемуарной литературы известных людей эстрады и политики — шоуменов. (Так для себя их называю.)
С трудом проталкиваемся к отделу художественной литературы. И здесь в большинстве — шоумены. Однако... читаю вслух:
— Сергей Довлатов. "Чемодан", сборник рассказов из ленинградской жизни.
На мягкой обложке фото: электрическая машинка на фоне преуспевающего писателя. "Фото Нины Аловерт, Нью-Йорк, 1980 г.". Не знаю, не знаю, был ли он именно в этот период жизни преуспевающим? Скорее всего — нет. Скорее всего, здесь тот случай, о котором сам Довлатов иронизируя, говорил: "Одержал поражение".
Подаю книгу жене. Пока вникает, беру еще одну — "Заповедник". И здесь фото Нины Аловерт, но писатель снят как будто на зоне: помятый, заросший, в какой-то кожаной кепке, натянутой на глаза, — зэк. Нет-нет — состоявшийся писатель (Нью-Йорк, 1987 г.). Глядя на фотографию, невольно опять вспоминается его самоирония: "Потерпел успех".
Сквозь жесткое, съедающее обычный шум жужжание кассового аппарата слышится настойчиво повторяющийся женский оклик:
— Молодой человек, слышите, молодой человек!
Я не сразу догадываюсь, что окликают меня, точнее, совсем не догадываюсь (магазин забит молодыми людьми), пока жена не дергает за локоть.
— Кажется, это тебя — кассирша.
Это так странно, я поворачиваюсь к ней. Она сидит у входной двери на очень высоком стуле, даже не стуле, а какой-то двухэтажной этажерке. Перед нею на столе, заменяющем прилавок, стоит трибунка, а на ней — кассовый аппарат, за которым она — словно инка-космонавт. Почему вспомнился археологический космонавт, орудующий за панелью приборов, — не представляю. Может, виною велосипедные перчатки без пальцев на ее руках? Впрочем, как нынче модно резюмировать — "без комментариев".
— Молодой человек, что выбрали?
Очередь выразила робкое неудовольствие тем, что она отвлеклась от своей непосредственной работы.
— Разве вы не видите, что я разговариваю с человеком, — с нажимом спросила Инка и отключила кассовый аппарат.
Очередь совсем немножко — для приличия, постояла и разошлась.
— Выбрал Сергея Довлатова: "Чемодан" и "Заповедник".
— Я так и знала — Довлатова! — обрадовалась Инка. Некоторые из интеллектуалов дружелюбно засмеялись. И у нас состоялся импровизированный разговор: вопросы — ответы. Кто мы? Откуда? С какой целью в Араде? И так далее, и так далее. Мы тоже не стеснялись, спрашивали все, что интересовало. А после того, как Инка предложила мне вместо выбранных книг взять собрание сочинений Сергея Довлатова (четырехтомник Санкт-Петербургского издательства "Азбука"), и я взял его, но от выбранных книг в мягкой обложке не отказался, — разговор стал совершенно раскрепощенным.
— Понимаете, не могу читать собрания сочинений кого бы то ни было в дороге, — пожаловался я. — Дома, у камина, под хрустальной люстрой, — куда ни шло. А в дороге — извините, правило нехорошего моветона. В дороге надо читать дешевые издания, в мягкой обложке, на газетной бумаге.
— Вот, а я вам что говорю! — торжествующе воскликнула Инка, обведя всех победным взглядом.
В этот момент на своей этажерке она походила на коронованную особу из племени космических рокеров.
— Они думают, — сказала она мне обо всех присутствующих интеллектуалах, — что все умные — богатые, а все бедные — глупые. Я же им говорю, что у каждого умного есть шансы стать богатым, а у глупого богатого стать умным, увы, — нет никаких шансов.
Теперь в разговоре приняли участие и юноши, и девушки.
Оказалось, что в Араде, и в Беэр Шеве, и везде (потому что у кого-нибудь в классе обязательно есть родственники и знакомые и в Хайфе, и Тель-Авиве, и Иерусалиме) самые умные в Израиле — это они, русские. Во всех классах и во всех школах к каждому русскому прикрепляют из местных или иммигрантов из других стран по два-три человека неуспевающих. Сейчас многие местные сами добровольно учат русский язык, потому что советские русские учебники и справочники самые лучшие и самые дешевые в мире.
Я сказал, что раз в Араде проживают, в основном, русские, а русские — самые умные, то материальная бедность, с которой они приехали из СССР, пусть постепенно, но должна исчезать. Должны появляться состоятельные, и даже богатые люди, — где они?
Молодые интеллектуалы и интеллектуалки, весело переглядываясь, заявили, что такие люди даже в Араде и Беэр Шеве уже есть, не говоря об Англии, Голландии, Германии и Соединенных Штатах, куда после окончания школ некоторые уехали.
— А что же они не побеспокоятся об Араде? Проспонсировали бы благоустройство города, на крайний случай центральной площади — ужасно запущенный вид.
Мои собеседники растерянно умолкли. Вмешалась Инка.
— А вы знаете, что многие из Англии, Голландии и США давно уже просятся к нам со своей помощью, но мы не берем...
Собеседники воспряли, опять стали весело переглядываться, чувствовалось, что они хорошо понимают своего археологического космонавта Инку, более того, надеются на нее.
— Право благоустроить нашу площадь получат только те, кто с первого класса окончил школу в Араде.
Инка сообщила, что даже она не имеет права благоустраивать площадь, хотя живет здесь уже почти двадцать лет.
— А вот они, — она кивнула на юных собеседников, — имеют. И это право мы предоставим прежде всего какому-нибудь нашему Рабиновичу, потому что Рабиновичей у нас большинство.
У вас в Москве или Ленинграде есть площадь Иванова? — Нету! А у нас в Араде будет площадь Рабиновича, — с пафосом не сказала даже, а оповестила Инка.
Она включила свой кассовый аппарат, и агрессивное жужжание поглотило все другие звуки. Очередь возобновилась.
Конечно, ее заявление было чистой воды пропагандой, насколько патриотичной, настолько же и нелепой. Но оно тронуло меня. Подлинный патриотизм бескорыстен, он соткан из любви, а любовь — это сердце! К счастью или к несчастью, но дела сердечные всегда беззащитны.
Когда мы выходили из магазина, кассовый аппарат вновь заглох.
— Вы что же, будете писать о нас, об Араде? И что же вы напишете? — спросила Инка.
Все вокруг, как говорится, смолкло, еще точнее — "смолкли шорохи...", и я почувствовал, что ответ важен не столько для нее, сколько для юных посетителей. Кажется, и она вдруг это почувствовала, занервничала. И хотя ее никто не торопил и не выказывал неудовольствия, она неожиданно рассердилась.
— Подождите, разве вы не видите, — я с человеком разговариваю!
Она разговаривала со мной, ЧЕЛОВЕКОМ. Теперь это прозвучало как комплимент, как комплимент предостерегающий, ведь они, посетители ее русской синагоги, еще дети. И я сказал, что если буду писать об Араде, то обязательно напишу о ней, а о ней просто невозможно плохо написать.
Инка заулыбалась, и вокруг нее заулыбались молодые люди, ее дети. Они восприняли похвалу ей — прямым попаданием в свой адрес, потому что, какою бы ни была Инка, это их Инка и больше ничья.
Глава 46.
Поездка в Беэр Шеву запомнилась двумя обстоятельствами. Первое — мы купили большой хороший чемодан. Жаль, что черный, а так — с ручкой, колесиками наподобие детской коляски. Кстати, там был и темно-синий, он бы и по цвету сошел за коляску, но кто-то гвоздем распорол крышку. Продавец, молодой человек, уговаривал нас взять его, дескать, снизит цену. С точки зрения жены это была такая наглость, что она попросила Виктора перевести продавцу, чтобы он не хамил, а пошел и поискал темно-синий чемодан.
Не знаю, что уж там перевел Виктор, но само общение с продавцом выглядело неубедительным. Мне показалось, что Виктор владеет ивритом примерно так же, как я английским, то есть читает и переводит со словарем. В общем, из их беседы, весьма длительной, продавец ничего не понял, точнее, понял, что мы покупаем темно-синий чемодан. Пришлось вмешаться. Указав на дефект, с помощью жестов и мимики я объяснил, что чемодан надо заменить. Продавец, отрицательно покачав головой, скрестил руки, дескать, темно-синих нет. Тогда я постучал по черному, точно такому же, и указал на кассу. Наше общение через мимику и жест было настолько быстрым и точным, что подкупило продавца, ему захотелось продолжить "беседу". Он указал на огромную сумку со специальным поддерживающим ремешком и, надув щеки, как бы поднял ее и, подпрыгнув, закинул на верхнюю полку. Потом безвольно уронил руки, словно стряхнул тяжесть.
— Говорит, что от него жена ушла, — перевел я Виктору, который во все глаза наблюдал за нами.
В ответ он сразу как-то сник, стал таким большеротым, что мне опять его стало жаль.
Второе обстоятельство, по которому запомнилась поездка в Беэр Шеву, — встреча с верблюдицей и верблюжонком, которую вполне можно было бы поставить на первое место, если бы ее не смазал Виктор.
Мы выехали из Беэр Шевы (в древности — город патриархов, столица Негева) на дорогу, ведущую домой, в отель. Неожиданно, впервые за день, вышло солнце. Местность вокруг повеселела, горизонты раздвинулись, и во всей красе предстала как бы юная земля Ханаанская, о которой Иисус Навин восторженно поведал, что она истекает млеком и медом. В самом деле, зеленые поля, холмы и это — посредине нынешней пустыни. Мы с женой невольно залюбовались. Молодцы евреи, живут на пороховой бочке, а успевают обиходить землю. У нас бы сказали — безводные поля, рискованное земледелие... А они — ничего. Закатывают рукава и, — пожалуйста!
Не знаю, то ли где-то поблизости располагался полевой стан какого-нибудь киббуца или мошав-ов'дима (сельскохозяйственного кооператива), но откуда ни возьмись, появились одногорбая верблюдица с поводом на шее, и, с некоторым отставанием от нее, белый-белый, как весеннее облачко, верблюжонок. Они бежали наперерез нам. Верблюдица легкой трусцой, а верблюжонок, на тоненьких длинных ножках, буквально летел, не касаясь земли. И совсем уже отстав, следом спешил молодой бедуин в голубых джинсах и красно-белой куртке, хорошо заметной даже издалека.
Впрочем, нам показалось, что наперерез. Виясь, дороги то сближались, то расходились, — менялся лишь угол зрения.
Мы были в восторге от верблюжонка, который, играючи, догнал мать и на ее фоне походил на белую лебедушку. Верблюжонок и лебедушка — ничего общего. Я тоже так думал...
— Виктор, сверни с дороги на проселочную, — попросил я. — Маленько проедем: не хочется терять их из виду.
Виктор, резко притормозив, остановился.
— На секундочку выйдем, — сказал он.
Я подумал, обычные неотложные дела, которые всегда некстати. Сам без приглашения зашел назад, чтобы из микроавтобуса не было видно. Каково же было удивление, когда его естественная потребность оказалась другой.
Виктор стал выказывать и высказывать некую обиду. Вот мол, приезжают всякие, и то им подай и это. Он, конечно, понимает, они туристы, они платят деньги и им хочется побольше посмотреть всего. А того они не думают, что вот сейчас он поедет, а его возьмут и остановят, и вдобавок вышлют из Израиля. А у него в Ленинграде мать-учительница, и ей надо помогать.
Нет-нет, обида была нешуточной, но несколько не по адресу. Обычно в таких случаях говорят: он пошел очень быстро, но не туда и не в том направлении.
Вдруг вспомнил, что позабыл присмотреть бандаж, но, чтобы не обидеть Виктора, промолчал. Еще подумает, что позабыл с умыслом, — обидится.
А между тем он, наконец, тоже умолк, уголки губ опали, и рот стал до неприличия большим. Я ощутил чувство внутреннего протеста — нельзя святое поминать всуе.
— Кажется, я все понял — поехали в отель, — сказал я.
Жена дремала. А мы с Виктором за всю дорогу не проронили ни слова. Всякие мысли приходили в голову, но чувства жалости не было, — в конце концов, из желторотых птенцов вырастают пернатые хищники.
Поначалу созерцание собственного пупа мне нравилось. Я получал в некотором роде незапланированные дивиденды: дополнительное внимание к своей персоне, новые знакомства, разговоры. Но после второй поездки в Арад, которую совершили по настоянию профессора, вдруг как-то сразу все обрыдло, стало до невозможности отвратительным.
А еще с утра все было замечательным. Мы побывали на процедурах. В полдень на легковом автомобиле подкатил Паша (молодой человек из Украины, по профессии психолог) и мы поехали в клинику. Разговор в машине ни к чему не обязывал, тем более запомнилось, что Паша по древнекорейской методике Су джок (вместо иголочек, правда, он использовал звездочки) буквально за месяц поставил на ноги женщину-инвалида, прежде не расстававшуюся с коляской.
Паша был одет во все темно-коричневое: тончайший свитер без горловины, спортивные вельветовые брюки, кроссовки и вязаная кипа. Особенно бросались в глаза кипа (писк молодежной моды — глубокая плоская шапочка, наезжающая на лоб) и мобильник на поясе (для удобства свитер на боку был небрежно задран).
Еще о Паше надо сказать, что у него был вид самбиста: высокий, плотный, с толстой, прямо-таки могучей выей. Именно выей, а не шеей. И при этом лицо его напоминало младенческое. Да-да — младенческое! Что уж тут было виною, отсутствие ресниц и бровей или бритоголовость (когда в машине он снял кипу и вытирал пот — его можно было принять за монгольского ламу). Судить не берусь, скажу только, что все вместе: и его рассказ, и внешний вид составили и о нем, и о клинике, в которую мы ехали, весьма многообещающее впечатление. Каково же было удивление, когда увидел, как по-лакейски униженно он раскланивался в регистратуре, а на указание какой-то особы средних лет провести меня к заведующему так резво побежал "сполнять" распоряжение, что едва не сбил меня с ног. До сих пор не понимаю, почему жене не разрешили пройти со мной? Впрочем, и это куда ни шло в сравнении с тем, что перед дверью к заведующему он вдруг резко вильнул в сторону.
— Мне туда нельзя!
Впрочем, нет никакого желания вспоминать заведующего — это воплощение лукавства, лощености и притворства. С первых же его слов стало ясно, что никто меня обследовать не будет, пока я не дам согласия на операцию. Однако так сразу — согласие?! Ведь мы через два дня надеялись быть дома. Весь смыл обследования как раз в том и состоял, чтобы без нужды не бросаться под нож. По наивности я сослался на профессора Фридмана. В ответ заведующий подчеркнул, что он тоже профессор.
— И все же давайте с ним созвонимся по телефону, — предложил я.
Тоже-профессор дважды звонил в "Медиси", но, естественно, не дозвонился. А когда я выходил из кабинета, он так подобострастно поклонился мне, что в этот миг я уловил в нем что-то, неотличимое от Паши.
Из машины я без труда набрал "Медиси". Ответила Лена, она никуда не отлучалась и тут же соединила с Фридманом. Он огорчился, попросил по приезде зайти к нему. Я зашел и стал свидетелем перебранки по телефону — то ли профессорской, то ли профессоров.
Вечером того же дня, после очередного созерцания, я лежал на спине, глядя в потолок. Никаких особенных мыслей не было, думалось о поездке в клинику и еще о том, какая чушь вся эта грыжа. И вдруг жена сказала:
— Надо же, никогда не думала, что поговорка "пупом торчит" такая точная! Напротив, всегда считала ее глупой и неточной.
— Ты это к чему?
Я приподнял голову и, перехватив ее взгляд, полный сочувствия, сказал, что тоже знаю кое-какие пословицы, например: "Мила та сторона, где пупок резан", "Глуп по самый пуп, а что выше, то пуще".
Жена засмеялась, попросила повторить. Но я сказал, что голубь пролетел, что лучше всего, если мы пойдем побродим по улице, зайдем в какой-нибудь ресторанчик, посидим.
И мы пошли.
Глава 47.
Странное существо — человек. Почти две недели мы отдыхали в отеле "Хайат". Бродили по курортному местечку, или, как здесь называют, поселению: его площадям-площадкам, скверам-палисадникам и улицам-тротуарам. Отдыхали на веранде ресторанчика и сидели в креслах-лежаках на берегу Мертвого моря. Странно, конечно, но нам и в голову не приходило, что наши прогулки в дни отъезда, внешне прежние, будут выглядеть по-другому, более бережными, что ли. Во всяком случае, не такими расточительными.
В самом деле, когда мы гуляли здесь в первые дни — мы как бы бежали, округлив глаза. Смотри — пальмы! Хорошо — пальмы. А это какая-то трава с цветами?! Да — с цветами. А вот круглое сооружение с матерчатыми навесами, мачтами и щитами, один в один — цирк... Пусть — цирк. А вот и Мертвое море, словно разлиновано на грядки. Фабрики. Добывают разнообразные соли, особенно хлористый калий, его тут на литр рассола не менее трехсот граммов. А вон горы, а на них облака. Там — Иордания. И мы бежим, бежим, глаза округляются и округляются, но все равно всего они не вмещают и увиденное рассыпается, но собирать его незачем, потому что повсюду горы — горы не увиденных или невиданных богатств.
Теперь совсем другое. Мы сидим на лежаках-креслах и смотрим на изумрудную гладь моря. Цвет воды постоянно меняется, но той живительности, что свойственна морю Галилейскому, в ней нет. Да и откуда? Там берега покрыты буйной растительностью, а здесь голые мертвые берега, даже содомских яблок нет. Впрочем, потеря невелика — пузыри, наполненные воздухом, только усиливали бы здесь смертную скуку...
Я смотрю на облака на той стороне моря, они величественны, они являют собой как бы продолжение гор, но снизу уже сгущаются сумерки — день заканчивается.
— Скоро темнеть начнет. Давай потихоньку будем возвращаться, — предлагает жена.
Мы подходим к "цирку", и он словно выпрыгивает нам навстречу — и в палисаднике, и на веранде зажглись огни.
Мы проходим внутрь помещения. Нет-нет, это не супермаркет, хотя всяких торговых точек — хоть пруд пруди. И не ресторан, хотя и он имеется. Здесь и парикмахерская, и часовая мастерская, и пункт обмена валюты, и ювелир-гравер, в общем, всего натолкано — дом всевозможных услуг. По-советски — быткомбинат. Именно в здешней турфирме нам презентовали карту пилигримов Святой Земли.
Мы прошли в кафе. На кассе и раздаче царила Мариам. Завидев нас, разулыбалась.
— Что, соскучились по нашей русской кухне? И тут же через головы посетителей сообщила, что припасла для нас две бутылки "Баркана" тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года, большую и маленькую.
— Маленькую — придется открыть, а большую — возьмем с собой, — сказала жена.
Они весело переглянулись и Мариам, обслуживая клиентов, сказала, чтобы мы вышли из очереди и сели за стол — она сама подойдет к нам, она догадывается, что мы закажем.
Не знаю почему, но такие эпизоды, когда они случались, вызывали странное чувство, будто мы (и Мариам, в данном конкретном случае) были русскими, а стало быть, настоящими евреями. А все остальные посетители кафе, хотя и были евреями, но все же какими-то ненастоящими, как бы недозревшими еще. Разумеется, мы понимали, что это самое низкое, самое отвратительное, что может быть в человеке — расизм, к тому же на бытовом уровне. Но в том-то и весь ужас, что он не вызывал отвращения. Напротив, являлось ощущение, как сказал бы киплингский Маугли, что мы с вами (с нею, Мариам) одной крови, и более того, единомышленники.
Улица-тротуар проходила сквозь сквер-палисадник, а возле отеля, вместе с автомобильной дорогой, делала широкий полукруг. Пальмы росли прямо на тротуаре. Их освещение выглядело фантастическим, потому что светильники располагались не на столбах, вверху, а под пальмами, внизу, в углублениях вокруг ствола.
— Смотри, под каждой — стеклянный настил, чтобы не провалиться, и по два светильника.
Невольно подумалось: однако на такую сказочную красоту и денег вбухано сказочно.
— Естественно, вся электропроводка заизолирована и спрятана в специальных шурфах и колодцах, — резюмировал я.
Я предполагал, что жена находится рядом, так сказать, молчаливо созерцает сказочную красоту. Каково же было удивление, когда услышал ее с тротуара на другой стороне дороги.
— А здесь этих лампочек под стеклом целые гирлянды.
Мне стало смешно.
— Какие-то загадочные личности бегают под пальмами, интересуются освещением.
Жена тоже засмеялась. Мы некоторое время молчаливо постояли, любуясь пальмами, которые, утопая в электричестве, казались волшебными и невольно переместились в небо.
— Смотри, созвездие Орион, — сказал я.
— Господи, как бесподобно сияет алмазный пояс охотника! — воскликнула жена.
— Это потому, что Содомская гора — оттеняет.
Жена положила голову мне на плечо — мы помолчали.
— А почему ты его считаешь охотником?
— Все так считают, ты сам говорил.
— Нет, не все. Капитан супертраулера "Давыдов" Геннадий Иванович Протерский называл твой пояс, английскую букву "W", — "дубль вэ", а все созвездие — бабочкой, Махаоном.
— Тоже красиво и точно. Мы опять помолчали.
— А ты для себя как называешь? — спросила жена.
— Для меня Орион это Орион — символ чистого дыхания. "...Цепью лазурною, цепью жемчужною — с милого севера в сторону южную".
— Ay тебя ведь есть стихотворение "Дыхание Ориона". О художнике?
И чтобы у меня не было сомнений, сказала, что это стихотворение ей всегда нравилось и нравится. И просто жаль, что посвятил его А.Н.Д.
Я кружу по городу, как шакал.
Вдоль и поперек его исшагал.
Пищу для этюдика, Господи,
бедному художнику где найти?
Красок не имеется. Нет холста.
Звонкая в кармане лишь пустота.
Под ногами золото. На все сто —
дуб сыграл в желуди, как в лото.
Скоро выйдет с Севера — Орион.
Осень проиграет — миллион.
В серебристый иней, во траву,
сбросит дуб последнюю листву.
Но тогда об Осени не скорбя,
я срисую Осень, сам — с себя.
Чтобы опередить похвалу, которая в данной ситуации неизбежна, а потому — не более как дань тщеславию, предложил жене сходить в бассейн, и вообще в оздоровительный комплекс.
— Хорошее стихотворение, — нехотя поднимая голову, сказала жена. — И с какой стати посвятил А.Н.Д.?
— Ему нравится экспрессия стиха.
— Ну и что? Мне тоже нравится.
— Я тебя не понимаю.
— Я это уже поняла.
— Подожди, ты же не художник.
— Ты так думаешь? — весело спросила жена с теми особыми радостными нотками в голосе, которые лучше всяких слов свидетельствовали, что я заблуждаюсь, она — великий художник.
Это было так неожиданно для нас обоих, что мы вместе рассмеялись.
Главный бассейн — большая каменная ванна прямоугольной формы. Вокруг нее — скамейки, лежаки, кресла. Здесь всегда много народа, потому что халаты и полотенца приходится оставлять на скамейках. И еще потому, что отсюда (по трем ступенькам вверх) выходишь на площадку джакузи. Вода в круглых емкостях бурлит, как в кипящих котлах, — отдыхающие блаженствуют.
Там дальше, за стеклянной стенкой — два бассейна с сероводородной водой. В одном из них вода летняя, а в другом — горячая. Сначала заходишь в один бассейн, привыкаешь, потом — в другой, лечишься.
А еще дальше, в коридорах — сауна и душ. Впрочем, душевые кабины повсюду, особенно много их возле джакузи и главного бассейна, потому что и в джакузи, и в главном бассейне вода из Мертвого моря, а она очень агрессивна. Во всяком случае, нас предупредили: не дай бог, нахлебаетесь воды, — срочно бегите под душ промывать глаза, уши и носоглотку. Но больше всего я верил Герману Мелвиллу, вот что он записал в своем Дневнике о Мертвом море:
"Берег покрыт галькой и пеной, похожей на слюну бешеной собаки. Горький привкус воды. Целый день испытывал горечь во рту. Горечь жизни. Раздумывал обо всех горестях. Горько быть бедным и горько испытывать оскорбления".
Да, это так. Мертвое море, а в особенности его вода как-то исподволь навевают невеселые мысли. Наверное поэтому во все дни я избегал пробовать воду на вкус и окунаться в нее с головой. Мне представлялось, что настоящее знакомство с "мертвой водой", так я ее называл, произойдет вопреки моему желанию. То есть либо я поскользнусь, либо споткнусь, либо кто-нибудь в бассейне нечаянно боднет меня и собьет с ног. Словом, как-то произойдет, что я еще нахлебаюсь этой смертной воды. Я настолько уверовал в это "вопреки", что по ступенькам спускался особенно осторожно. А место купания выбирал настолько осмотрительно, что за все дни отдыха никто не только не боднул, но даже не дотронулся до меня. Впрочем, поведение купающихся тоже было соответственным, все они, чтобы не столкнуться, проявляли максимум осмотрительности.
Вечером двадцатого января, собираясь в бассейн, мы пришли к выводу, что, может быть, это последнее посещение купален. В самом деле, завтра едем в Тель-Авив на медосмотр, а там уже двадцать второе — в любом случае день отъезда. В общем, я решил не ждать столкновения, а самому исследовать воду Мертвого моря. То есть, не закрывая ушей и носа нырнуть, открыть глаза, а потом попробовать эту агрессивную воду на вкус, и, может быть, даже чуток ее глотнуть.
Как всегда осторожно спустился по каменным ступеням в воду (бассейн почти на всей площади мелкий, чтобы любой купающийся мог стоять или при случае встать на ноги). И, не торопясь, медленными шагами побрел к противоположной торцовой стене бассейна, где воды было почти по грудь, а народу не было.
Если кто-то подумал, что моя неторопливость обусловливалась замыслом — ничего подобного. Виновницею — вода.
Я отрываю ногу ото дна, и ее выталкивает на поверхность. Нога не имеет веса, она словно накачена воздухом. Я просто так приседаю, и вода срывает меня с места, будто я воздушный. На что руки?! Я растопыриваю пальцы и стараюсь опустить их как можно глубже, но вода не пускает, выталкивает, словно это и не руки, а надутые резиновые перчатки. Люди вокруг — все на поверхности. Не надо никаких усилий. Ложишься на спину — и уже плывешь, как надувной матрас. Поджимаешь ноги, — и ты уже поплыл, как пробковая пешка.
— Иди в джакузи, я сейчас приду, — сказал я жене.
Мне свидетели были не нужны.
Наконец, я на месте. Однако если нырнуть и открыть глаза, потом весьма затруднительно будет добираться до душевой кабины.
Держась за край бассейна, я окунулся и даже досчитал до трех. Вынырнул, словно выпрыгнул, благо вода сама вытолкнула.
И что нас пугали: вода Мертвого моря похлестче соляной кислоты и даже — серной. Слава богу, синильную не упоминали — чушь, нормальная вода.
На этот раз я двумя руками взялся за край бассейна и, наклонив лицо, решил попробовать воду на вкус. Все было бы нормально, но каким-то образом, дополнительно, я втянул воду еще и в нос. Первое впечатление — будто мне сыпанули в лицо горсть перца. Дыхание перехватило, но у меня хватило сил подавить конвульсии, остановить дыхание. Я отжался и выполз из бассейна. Потом я попытался бежать, но всюду эти скамейки, а на них пожилые женщины. Мне не хватило дыхания совсем немного, почти у душа я словно бы вдохнул в себя горящее пламя. И рот, и нос, и глаза, и уши, и все внутренности словно спеклись в единый комок. Я даже не помню, как меня затащили в душ. Уже потом, когда маленько пришел в себя и жена помогла выйти из душа, появилась врач. Заставила принять какие-то порошки и сделала укол. Но, самое главное, утешила: через два дня придете в норму и даже не вспомните. (Врач оказалась русской, из-под Киева.)
В тот вечер мы не стали пить чай. А мне так нравилось выбирать пакетики всевозможных трав и, настаивая в чайничках, смотреть, как люди в роскошных халатах проплывают в купальни или располагаются за соседними столиками. Единственное, что было приятным, мы отказались созерцать мой пуп. Но зато каждые десять минут я показывал жене свой облезший язык.
В ту ночь я долго не мог уснуть. Вспоминались слова Германа Мелвилла о том, что горько быть бедным и горько испытывать оскорбления. Да, конечно, думалось мне: плохо быть бедным и больным, гораздо лучше быть богатым и здоровым.
|

