 Назад Назад 
|
|
 |
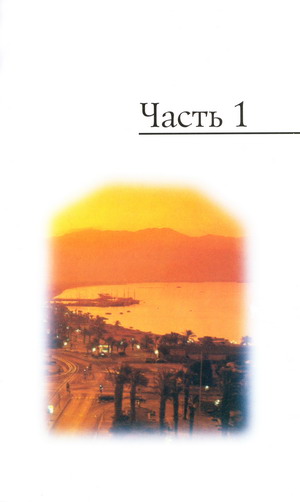
Глава 1.
Моя прапрабабушка Екатерина Васильевна была долгожительницей. Я очень горжусь ее ста пятнадцатью годами, но более всего — ее духовным подвигом (она совершила паломничество на Святую Землю, как говаривала, — так гласит предание, — "в небесный град мрии", Святой Иерусалим).
В толковом словаре Даля говорится, что паломник — богомолец, калика, бывший на поклонении у гроба Господня. Что паломничанье было встарь в общем обычае. Что ж... прапрабабушка чтила обычаи предков, а стало быть, и нам велела.
Тридцатого декабря тысяча девятьсот девяносто девятого года в Москве порядком завьюживало. Было холодно, сыро. Мы вышли из накопителя, и я подумал, как хорошо, что мы одеты в зимние куртки, а на ногах у нас полусапожки. Еще я порадовался, что летим на "Боинге": можно смотреть "видик" и через наушники слушать прямой перевод текста, или вообще ничего не слушать, а лицезреть за иллюминатором небесные поля.
Обед был обильным: холодные и горячие блюда, сок, сухое вино, коньяк, виски. Особенно понравился рыбный соус. Через некоторое время бортпроводница принесла нам десять коробочек рыбного соуса.
— Возьмите, в Израиле такого нет. (Это она точно знает. Овощи, фрукты, всякие молочные продукты, а вот рыбного соуса — увы!)
Самолет стал снижаться, а солнце падать за красные горы. Вспыхнула бриллиантовая чаша — Эйлат.
В Москве нас подготовили к встрече с израильской службой безопасности и таможней.
— Им повсюду мерещатся террористы и контрабандисты, но волноваться не надо. Исходите из того, что ваши вещи переворачивают, чтобы обезопасить вас, — напутствовали провожающие.
В общем, мы настроились на самую жесткую проверку, но жесткой проверки не было. С помощью таких же, как мы, пассажиров заполнили декларации (не в пример нашим) с весьма скупым перечнем вопросов. Продемонстрировали перед девушкой (погран-властью) сходство своих физиономий с фото на паспорте. И, водрузив чемодан и сумку на тележку, двинулись в другой зал.
Немного о залах. Металлотрубчатые остовы и сочленения, поверх которых натянуты "стены и крыши" из какого-то синтетического брезента — вот и все стройматериалы. Впрочем, что удивительного, еще в самолете объявили, что температура воздуха в Эйлате — девятнадцать градусов, а воды в Красном море — двадцать два. У нас зима — снег, а у них?! "Что хотят, то и делают!" А ведь от разницы температур возможно возникновение электричества, причем избыточного.
Никакого электричества не возникло. Мы подвезли свою кладь к таможенникам, чтобы пропустить через "телевизор", но нас остановили и направили к выходу в город. "Без проверки?!" Нам показалось это подозрительным. Законопослушные граждане, мы несколько раз порывались объяснить чиновникам, что надо проверить наш багаж. В ответ они только ухмылялись и, закатывая глаза, восклицали:
— Выпь, вы-ыпь!
— Нас принимают за особый вид птиц, — сказал я.
То, что мы "VIP-персоны" — как-то в голову не пришло.
В конце концов, отделив нас от пассажиров, словно от плевел, попросили пройти в другой зал. Анна, гид, о которой были проинформированы еще в Москве, ждала с табличкой — господа такие-то... (Это было так странно — всегда и всюду — "товарищи", в крайнем случае, "коллеги" — и вдруг!..) После взаимных приветствий Анна сказала: "Погуляйте!" И сменила табличку. Теперь она приглашала туристов из Бельгии.
Гулять не хотелось, да и как-то несподручно гулять "господам" с багажом.
Мы выкатили тележку с кладью на улицу и предались тихому восторгу. За свою жизнь мне не раз доводилось попадать из одной климатической зоны в другую (я ходил матросом добычи на судах океанического лова БМРТ и СБМРТ ) и всегда, меняя зиму на лето, приходил в восторг. К этому нельзя привыкнуть — лед и пламень! Только что шел по снегу, метель залепливала лицо, и вдруг — вверху красноватые вершины гор, а здесь, рядом, в свете дневных ламп, удивительно грациозные силуэты пальм. И тепло... тепло, как в июньский вечер. А на дворе конец декабря — тридцатое. На земле не должно быть погранвластей и границ, каждый кусочек территории нашей планеты принадлежит всем, всему человечеству.
Аэропорт "Увда" расположен в семидесяти километрах северо-западнее Эйлата. Он соединен с городом, если верить туристическим справочникам, весьма живописной автострадой. Но я не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что мы ехали по ней, когда повсюду стояла ночь. Единственное, что запомнилось, — разметка автострады, точнее, краска, какою была размечена. В свете фар прерывистые линии, разделяющие автополосы, горели, словно бесконечные гирлянды электрических лампочек. И еще, какое-то двухступенчатое сияние Эйлата (позже узнал, что другая "ступень" — город Акаба, принадлежащий Иордании). Ночью между этими городами не видно никаких разделительных линий (некоторые пробелы в освещении, а визуально — один город, одна сверкающая чаша).
Глава 2.
Отель "Дан" стоит прямо на берегу Красного моря. В ряду пятизвёздных отелей он, словно многопалубное судно, сияющее в электрическом ливне. Сразу за ним — вообще что-то необыкновенное! Какой-то роскошный дворец с арочными окнами, балкончиками, перекидными мостиками и башенками. Впрочем, как утверждал Владимир Высоцкий, "...но мне туда не надо!" До шестого января (Сочельника) нам предстоит пребывать в "Дане", его величественных покоях. Нет-нет, это не ирония, именно величественных уже потому хотя бы, что сразу, как только вы оказываетесь за стеклянной дверью-вертушкой, на вас как бы обрушивается горный ручей. Он мчится с огромной почти отвесной скалы, местами покрытой вьющейся растительностью, и это, знаете, очень величественно. Скала подпирает свод синего потолка, похожего на звездное небо и, кажется, прорастает куда-то еще выше. Вода скатывается с нее с шумом и брызгами и теряется у подножия среди достаточно крупных скальных обломков и камней.
Пока Анна-гид выясняла номер нашей комнаты, я подошел к клокочущему источнику. Вода и камни были настоящими.
Нас поселили на третьем этаже в довольно обширном номере. Посреди комнаты стояла декоративная перегородка наподобие плетня, только не из ивовых прутьев, а из синтетических. Перегородка была украшена светильником так, что тени создавали видимость крестьянского подворья. Иллюзия была настолько реальной, что когда я просыпался, мне казалось, я нахожусь во дворе своего детства, вздремнул на возу с сеном.
За перегородкой — стол с эллипсовидной стеклянной столешницей и — мягкий диван, оббитый темно-синим бархатом. Стол большой, человек на семь; а у окна с плотными двойными шторами — небольшой: на двоих. Такой же маленький столик и два стула на балконе. С балкона видны внутренний двор с обширным газоном и пальмами и совершенно аквамариновое зеркало воды нижнего бассейна (как потом выяснилось — "лягушатника"). Еще — электрическое табло со светящейся цифрой "2000" и надписью "MILLENIUM". Что такое "Millenium"? И это гигантское надувное подобие человека, как бы кивающее и размахивающее руками? Подобие пустотелое, матерчатое и, несмотря на свои гигантские размеры, производит впечатление подростка, причем мальчика. Инфантильное создание то встает над светящимся табло во весь свой гигантский рост, то резко переламывается в поясе, безвольно роняя руки. И тогда его продолговатая голова и плечи сейчас же окрашиваются в синий цвет, как бы отсекаются лучом подсвечивающего снизу прожектора.
Неизвестные слово, предмет, объект... для меня нестерпимы. Я начинаю потихоньку раздражаться оттого, что со мною нет словарей и справочников. Оказывается, в чужой стране свое, даже вполне естественное любопытство удовлетворить не так-то просто. Стараюсь не зацикливаться, ведь там, дальше (перешагиваю через пустого человечка), там дальше пальмовая роща и — море! Вечер тих, тепел — ни ветерка! Рейд почти пуст. (Ничего удивительного — все хотят встретить Новый год, Новый век, Новое тысячелетие в кругу семьи.) Я знаю, что такое "Millenium"!
Раздвигается стеклянная балконная дверь.
— Смотри, — сказала жена. — Анна-гид принесла несколько конвертов, а вот этот — посоветовала беречь, как зеницу ока.
Я вскрыл конверт. Администрация гостиницы приглашала нас на этот самый "Millenium" с двадцати часов и, как я понял, до утра.
— А что такое "Millenium" ? Конец года, века, тысячелетия, или — конец Света?!
— Для кого как, — ответила жена. — А для нас с тобой — это начало Нового года, Нового века, Нового тысячелетия.
— Тогда, может, скажешь: как называется это полотняное создание, похожее на гигантского солдатика? Видишь, как парус, то надувается ветром, то опадает, прямо-таки складывается...
— Наверное, так и называется — полотняный солдатик, — уверенно сказала жена.
Ужин поразил обилием овощей. Всевозможные салаты, лук, чеснок, огурцы, помидоры, капуста и еще много-много того, что у нас можно встретить — или не встретить — только на южных базарах. Не знаю, кто первым из шведов придумал шведский стол, но первая премия Шведской академии в области прав человека, несомненно, должна принадлежать ему. Самообслуживание и возможность из представленных яств изобретать что-то твое, по твоему вкусу — это ли не демократизм, интернационализм, то есть в высшей степени забота о правах каждого гражданина.
Впрочем, возле бачков с горячими супами, похожими на бульон, и бульонами, похожими на супы, обязательно находился раздатчик с черпаком. Были повара и возле электроплит, чтобы на скорую руку приготовить омлет с овощами или глазуньи. Но особенно меня удивил "факир" (араб, но не бедный) в белом халате и колпаке, который специальной ложкой взбивал или месил что-то, напоминающее тесто. Он был весь в этом действе, но когда к нему кто-нибудь подходил с протянутой тарелкой, он, словно фокусник, так ловко ставил над ней свою воздушную запятую, что это казалось колдовством, потому что на тарелке она каким-то образом превращалась в порцию тестообразного вещества. Скажу прямо, меня соблазнило не блюдо (на вид оно мало эстетично), меня увлекло волшебство, с каким наполнялись тарелки. Я протянул свою. И опять, ни на секунду не прерывая своего основного действа, факир и меня угостил воздушной запятой, которая тут лее материализовалась в порцию экзотического вещества. (Забегая вперед, скажу, что ни мне, ни моей жене блюдо не пришлось по вкусу — пресное тесто. И хотя впоследствии я узнал, что без него ни один настоящий турок не начинает собственно ужина, впервые мое равнодушие было столь безграничным, что я даже не поинтересовался его названием.)
Между тем шведский стол в израильском исполнении представил нам такое изобилие и разнообразие всяческой снеди, что наш ужин стал поистине "завтраком аристократов". Здесь было все: и майский салат, и перистый лук, и куски жареной говядины в горячем грибном соусе, и ломтики розового грейпфрута, и фаршированные оливы, и крупное золотистое яблоко, и два апельсина. И еще — сосуд с кокосовым молочком, а в довершение — темная, почти черная, бутылка розового "Баркана" 1987 года.
На вине, венчающем стол, следует остановиться отдельно. Когда стол был полон и мы с женой пробовали соусы и майонезы к мясу и свежим овощам, к нашему столу подошла светло-русая девушка Юлия, с которой мы познакомились у входа в эту, скажем так, столовую ресторанного типа. Тогда Юлия стояла за кафедрой и записывала всех входящих.
— Триста тридцать седьмая комната, мужчина и женщина, — перевел я жене ее записи.
Юлия, улыбаясь, заметила, что здесь много русских: она сама русская, из Минска. В общем, мы познакомились, и я попросил, чтобы она на английском вписала в мой блокнот наш эйлатский адрес. Она вписала, а теперь, на правах представителя администрации, подошла к нам.
— Какие-нибудь проблемы?
— Для полного счастья не помешало бы бутылку сухою вина и желательно красного.
Красное (доверительно сообщил я) лучше выводит стронций.
Жена поддержала меня, и Юлия посоветовала взять бутылку "Баркана" 1987 года.
— Израиль делает очень хорошие сухие вина, а в 1987 году лоза была на редкость отменной.
— Вы — израильская патриотка?
— Просто я люблю хорошие сухие вина.
Она подозвала молодого человека и заказала бутылку "Баркана".
— Примите от меня и сами убедитесь, — сказала Юлия, но жена запротестовала.
— Мы, наверное, и сами можем заказать? Она очень выразительно посмотрела на меня. И тогда Юлия сказала, что только в том случае можем, если турфирма оговорила дополнительную оплату сверхпроживания и питания. Вино и другие горячительные напитки в общий счет не входят.
Жена вытащила из сумки бумаги, которые Анна-гид посоветовала ей всегда иметь при себе, и Юлия тут же не только разобралась в них, но и как-то по-особому зауважала нас. Но флер прежней простоты отношений исчез, как бы бесследно растаял в значительности представленных бумаг.
Мы еще толком не приступили к ужину, а перед нами уже явились молодой человек и девушка в темно-синей гостиничной форме. Они подкатили раздвижной столик с матерчатым кошелем, в котором находилась бутылка вина, и, состыковав его с нашим столом, приступили к священнодейству. То есть подобно бортпроводникам "Аэрофлота" (благо форма была почти идентичной) молчаливо, но весьма красноречивыми жестами стали знакомить нас с предметом вожделения, как с кислородной маской или спасательным жилетом.
Мы с женой улыбчиво переглянулись и тут же, под воздействием священнодейства, посуровели. Ритуалам присуща строгость, веселье здесь неуместно, слишком белы салфетки и прозрачны фужеры. Когда я попросил взболтнуть вино в фужере и показать на свет, молодые люди тоже переглянулись. Так переглядываются при встрече с истинным ценителем. Это был их комплимент, и, кажется, после моего удовлетворительного кивка они удалились с еще большим, чем прежде, достоинством.
Вино пришлось по вкусу, оно было в меру терпким и давало то легкое опьянение, которое не пьянит, а лишь улучшает самочувствие. Не знаю, почему на этикетке был изображен двуглавый орел — так толком никто и не объяснил. То ли вино предназначалось для России, то ли — для Албании? Исходя из личного опыта, предполагаю, что Россия здесь ни при чем. Израиль хотя и тяготеет к государствам большим и сильным, но только как к покровителям, а торговать любит с государствами маленькими, под стать себе. В семидесятые годы, когда (благодаря советской пропаганде) я считал каждого еврея сионистом, а каждого сиониста — ультраортодоксом, втайне мечтающим о длинных пейсах, мне (тогда первому помощнику капитана супертраулера "Давыдов") довелось дважды побывать в Сингапуре. После ремонта, учитывая длительность предстоящей путины, мы заправлялись, как говорится, "под жвак" не только горюче-смазочными материалами, но и провиантом. Помнится, как уже в море обнаружили, что сингапурские апельсины на поверке оказались израильскими. На некоторых плодах стояли штампики — звезда Давида. Не знаю, чем лучше звезда Соломона, но тогда мне приходилось едва ли не оправдываться перед членами экипажа, дескать, упустили, просмотрели злостную вылазку хитроумных сионистов. О том, что это торговля равноправных партнеров, — в голову не приходило.
Теперь мы поглощали израильские овощи и говядину, приправленные грибным соусом, запивали все это прекрасным израильским сухим вином, и если бы кто-нибудь нам сказал, что ужин — есть результат коварных происков сионистов, то мы, несомненно, похвалили бы их происки. С возрастом люди больше ценят жизнь, хотя и не так цепко, как в молодости, держатся за нее. Распри на идеологической почве — что может быть глупее?! И все же все распри и войны двадцатого века — это прежде всего распри и войны идеологий. А казалось бы: живи и не мешай жить другим — будь человеком! "...Какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня?.."
— О чем задумался? — спросила жена. — Ты даже есть перестал.
Я встрепенулся.
— Какие мы дураки — не умеем жить и наслаждаться жизнью!
— Вот-вот, — поддержала жена. — Ешь, пей — наслаждайся!
Мы подняли бокалы и, чокаясь, она сказала, что после ритуала с вином многие в зале поглядывают на нас — ну, не то чтобы с завистью, но все-таки...
Я осторожно посмотрел по сторонам. На нас действительно поглядывали.
— Давай выпьем за коварные происки сионистов?
— Да ну тебя! — смеясь, отмахнулась жена.
Мы выпили просто так, вернее, для улучшения самочувствия, потому что хорошее вино никогда не пьется "просто так".
— Ты знаешь, — сказал я, ставя фужер. — Очень даже неплохо быть миллионером и VIP-персоной.
— Ты завидуешь Борису Абрамовичу Березовскому?
— Все испортила. Ну, какой же здравый русский, если он, конечно, не из числа детей лейтенанта Шмидта, будет завидовать БАБу?!
Мы замолчали, давая возможность паузе выдворить из-за стола образ незванно явившегося гостя.
Я смотрел через барьер на нижний зал, а через него — на открытую веранду, возвышающуюся над полотняными зонтиками, за которыми темнел окраек бухты. Изредка приливная волна швыряла в ночь рой бликов, похожих на огненные вспышки, и я почти физически чувствовал очищающее величие молчания. "...Какое мне дело до вас, до всех, а вам до меня?.."
— Ты помнишь поэта Марка Соболя?
— Марка Андреевича?
Лет тридцать назад, а то и больше, он приехал в Барнаул на семинар молодых поэтов, который проводила Алтайская писательская организация. (Тогда было модным искать таланты.)
Ему понравились мои стихи, и он пригласил меня на собеседование. Он сказал, что побывал на приеме у первого секретаря Крайкома партии и попросил его записать мою фамилию.
— Им только дай... они любого из нас сделают антисоветчиком, — Марк Андреевич был весел и остроумен, запомнилась частушка в его исполнении:
Ну-ка, бабка, выйди в сенцы,
Крепкий чай засамоварь,
И достань мне с полки энци
Клопедический словарь
Еще запомнилось, что он был в восторге от последних стихов Ярослава Смелякова. Впрочем, цитировал не только стихи.
— Он (Ярослав Васильевич) только что приехал из Японии и сказал, что деньги лучше всего зарабатывать при социализме, а тратить — при капитализме.
Марк Андреевич, весело смеясь, обнажал крупные желтоватые зубы, особенно верхние резцы. Казалось, что, нацеленные на собеседника, они не умещаются во рту. Ходила даже острота (приписываемая Михаилу Светлову): "Его зубы бегут впереди него".
Разумеется, жена думала сейчас не об этом. В тот день она приехала в Барнаул из Рубцовска. На радостях мы решили зайти в "Чулок" — столовую в доме под шпилем, в которой по вечерам разрешалось распивать спиртные напитки.
Мы столкнулись в дверях: поэты Марк Соболь и Марк Юдалевич как раз выходили из "Чулка". Ретироваться не удалось, остановил Юдалевич.
— А, именинник! (Имелись в виду похвалы в мой адрес на заключительном семинаре молодых писателей.) — Ас ним его возлюбленная! — жена в смущении покраснела. Марк Андреевич протянул ей руку со словами неподдельного сочувствия.
— Вот еще одна мученица. Наши жены мучаются с нами всю жизнь, а вы только начинаете — крепитесь!
Потом, уже в "Чулке", мы на все лады перебирали его слова и хохотали до слез. Нам казалось, что в отношении нас он не прав.
— Ты, конечно, знаешь, что он оказался прав? Нет-нет, не думай, что я испорчу ужин. Просто, когда тебя вскоре забрали в армию, а потом твои моря... А потом Коксохим, прокурорские повестки и подписка о невыезде... Я часто вспоминала его слова потому, что они помогали мне выстоять.
Она глубоко вздохнула, а я попросил, чтобы, наконец-то, произнесла тост, и желательно оптимистичный, — так сказать, поставила точку. И она поставила (как я считаю, для дня приезда) точку просто великолепную.
— Давай выпьем за наших детей, хорошее вино и хороших людей, потому что они — радость нашей жизни!
Глава 3.
Утро тридцать первого декабря тысяча девятьсот девяносто девятого года в Эйлате было превосходным. Мы стояли на балконе и любовались пейзажем. Море, тишь, утренние лучи гуляли по акватории бухты, как по серебряной поляне. Все суда у причалов, всем хотелось встретить Миллениум на берегу. Ничто не останавливало взгляда до самого горизонта.
— Боже, как хорошо!.. А у нас, наверное, снежная круговерть воскликнула жена.
После ее восклицания пальмы и море, теплынь и тишина показались еще более замечательными.
Что мы знаем о Эйлате, этом самом южном городе Израиля, о котором туристические справочники говорят не иначе как об "израильской Ривьере, где зимует солнце"? (Не знаю, кого устраивают подобные красивости?..)
Все началось, а я бы сказал возобновилось, весной тысяча девятьсот сорок девятого года с Чернильного флага, водруженного здесь, в местечке Ум Раш-Раш, солдатами Израиля. Я легко представляю, как два батальона израильских мальчиков, обветренных, в пропыленных и выгоревших под солнцем одеждах, в полном боевом снаряжении, в пропитанных потом и солью амунициях сделали бросок на юг, через пустыню, к Красному морю. Новое государство, с неустоявшейся еще символикой, а потому, наверное, у интенданта и не нашлось бело-голубого флага Израиля?.. И тогда солдаты сами нарисовали флаг.
Прошло пятьдесят лет, и вместо четырех нищенских рыбацких хижин, вместо безводных караванных троп, зачастую непроходимых для паломников, здесь вырос город-курорт.
А все началось или, точнее, возобновилось с Чернильного флага и горстки иорданских пограничников, благополучно бежавших в Акабу. Я не хочу никому наступать на больную мозоль, но уверен: если бы иорданцы приняли неравный бой и погибли — новая история Эйлата была бы другой, а может, ее бы и вовсе не было.
Впрочем, бескровность потерь, очевидно, и объясняется возобновлением. То есть в высшем, Божественном смысле никакой потери не было. Ведь еще в библейские времена здесь был порт, к которому Израиль имел самое прямое отношение. Именно отсюда умный и расчетливый царь Соломон посылал свои корабли в легендарную страну Офир, и те возвращались груженые золотом, слоновой костью, драгоценными камнями, благовониями и прочими-прочими дарами Востока.
"Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Черного моря, в земле Идумейской.
И послал Хирам (царь Тирский. — B.C.) на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми;
И отправились они в Офир..." (Третья книга Царств, 9,26—28).
Вероятно, именно в Эйлат, этот оживленный порт, и прибыла царица Савская, направляясь в Иерусалим для встречи с царем Соломоном. Поскольку это был первый запечатленный в истории государственный визит и о нем в мировой литературе и искусстве сохранилось множество самых противоречивых свидетельств — обратимся к первоисточнику.
"Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками.
И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями; и пришла к Соломону, и беседовала с ним обо всем, что было у ней на сердце.
И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей.
И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил,
И пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться,
И сказала царю: верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей;
Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои: и вот, мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала.
Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою!
Да будет благословен Господь, Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол Израилев! Господь, по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя царем, творить суд и правду.
И подарила она царю сто двадцать талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни; никогда еще не приходило такою множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону.
И корабль Хирамов, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней.
И сделал царь из сего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня.
И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее". (Третья книга Царств, 10, 1—13.)
Из многочисленных туристических справочников можно почерпнуть, что визит знаменитой красавицы-царицы к мудрому Соломону прошел весьма успешно, и довольная гостья возвращалась назад тем же путем, через Эйлат. Но так; как внеполитическим результатом визита стала беременность царицы, ее корабли не сразу пошли домой, в Йемен, а сделали остановку в эфиопском порту, где царица благополучно родила сына и оставила его на воспитание тамошним князьям. Эфиопы, преклонявшиеся перед величием двух монархов, признали их наследника своим императором и приняли иудаизм. Так было положено начало эфиопской еврейской общине.
Есть и другие версии, из которых явствует, что царица Савская была оскорблена Соломоном. Он приказал настелить зеркальные полы в покоях, где официально принимал ее. Чтобы не выставлять напоказ кривизну своих ног, царица Савская вынуждена была всегда надевать длинные платья. Это глубоко ранило ее, ведь таким способом Соломон указал ей, что ее красота небезупречна. В отместку царица не захотела видеть потомка Соломона в ряду своих наследников. А потому родила его в Эфиопии, как незаконнорожденного, и чтобы он никогда не напоминал своим присутствием об унижении, испытанном ею, навсегда распрощалась с ним.
Зная первоисточник, пусть каждый сам решает, какая из легенд, на его взгляд, более достоверна. Что касается меня, то из книг Царств мне кажется неопровержимым: порт Эйлат процветал в библейские времена при тех царях иудейских, что умели торговать и любые конфликты решали мирным путем. Я допускаю и даже чувствую некую символичность в том, что нынешний расцвет Эйлата никак не связан с кровавыми событиями: и Шестидневная война, и война Судного дня прошли в стороне и не коснулись его. В самом деле, что может быть более мирным, чем торговля, а в настоящее время еще и туризм и индустрия туризма, которые немыслимы без строительства первоклассных отелей.
А теперь вопрос на засыпку.
В шестидесятых годах, когда в Эйлате началось строительство трех первых гостиниц, — какое имя было дано одной из них? Впрочем, тут трудно промахнуться — "Царица Савская"!
Мы шли по набережной от одной палатки к другой и от одного магазинчика к другому. Мы шли по набережной в сторону супермаркета в надежде приобрести какие-нибудь незначительные подарки, в некотором роде узелки на память, мол, взято тридцать первого, как раз накануне Нового года.
В одиннадцатом часу возвращались назад (так нам казалось) в новых головных уборах бело-синей шахматной расцветки. На козырьках, на белом поле, красовалась вышитая золотистой ниткой уже знакомая цифра "2000", а сзади, на темном, чуть выше размерного ремешка — надпись на английском: "Иерусалим". В пакетах (для внуков: Вани и Гриши) несли два одинаковых рюкзачка с мордочкой "Иа", а в них, рюкзачках, милитаристские игрушки (два верблюжонка в амуниции Израильской армии. На их переметных сумках и подсумках стояло как бы тавро: на одном — "Голани", а на другом — "Пальмах".) Да-да, названия тех батальонов, что в марте тысяча девятьсот сорок девятого года водрузили здесь самодельный бело-голубой флаг.
— "Здесь" — это где? — спросила жена.
— Вон, видишь, прямо у самого берега краснеет? Это гостиница "Ред Рок", а чуть левее — "Сонеста". Здесь — это как раз в районе этих гостиниц.
— А ты откуда знаешь?
— Оттуда, — сказал я. — Если смотреть в бинокль через бухту, то наш отель на той стороне как раз напротив этого исторического места.
— Ничего себе забрели?!
— Это потому, что мы вышли из супермаркета не в те двери, что вошли, а подумали, что в те.
— Ну, заговорил, как митёк.
— А мне нравятся митьки, они никого не хотят победить.
— Может — побеждать?
— Нет, если митёк, то — победить. Вообще, теоретически митёк — высокоморальная личность: он абсолютно неспособен на сознательное зло, неагрессивен, тяготеет к православию, самодержавию, народности. Меня лично умиляет его детски наивное отношение к жизни.
— А наши новгородские митьки?! Тот же Сергей И., семья распалась — очень высокоморален?
— Зато у Анатолия Д. все в порядке. А потом они ведь неидеальные митьки, не стопроцентные, это я их так называю. Весь их андеграунд — обычное состояние любого талантливого, но еще не признанного художника. А признание зависит не от художника — это дело времени. К Стендалю пришло признание спустя десять лет после его смерти. (Стендаль — моя больная тема.)
— Ты можешь назвать мне хотя бы одного стопроцентного митька? — явно с вызовом спросила жена.
— Из художников — нет. Я же говорил, что митьковство — это не столько стиль русского лубка, сколько состояние души. Я убежден, что вот эти еврейские ребята, установившие здесь свой Чернильный флаг, были стопроцентными митьками.
И вот эти, с пейсами, — тоже митьки?
Мы невольно рассмеялись — возле нас прошествовали два бородатых ультраортодокса в шляпах, может быть, раввины или какие-нибудь важные государственные чиновники .
— Чернильный флаг и: "Митьки не хотят никого победить", — что-то тут действительно попахивает примитивизмом. Неагрессивные солдаты — куда уж дальше, конечно, митьки.
— И тем не менее, я настаиваю... потому что возобновить свое государство могли только те, кто носил его в душе. Это их произведение, понимаешь?!
— Не хватало нам еще поссориться на идеологической почве!
Мы молча остановили такси и молча доехали до гостиницы. Когда поднимались по ступенькам, нам встретилась группа митьков в черных широкополых шляпах. Мы с женой невольно многозначительно переглянулись и поспешили в вестибюль. Там расхохотались так, как хохотали только в студенчестве. Что с нас возьмешь — митьки.
Глава 4.
Наш гид — Анна Гершкович родилась и выросла в Свердловске, ныне Екатеринбурге. Из Свердловска же и приехала в Израиль. Приехала в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году, то есть ровно десять лет назад и, как нам показалось, гордится достигнутым ею положением. В самом деле, новенький автомобиль "Мазда" (темно-зеленый металлик), работа в престижной турфирме, вполне обеспеченная семья (сын-школьник несколько раз звонил по мобильному телефону) — есть, чем гордиться. Впрочем, мобильные телефоны здесь у каждого пацаненка, а японские автомобили — у каждого второго израильтянина. Анна сказала, что ежегодно американцы предоставляют Израилю безвозмездную ссуду в количестве двух миллиардов долларов только на развитие компьютерной техники и электронной связи, включая Интернет. (Ничего себе ссуда, если учесть, что общее население страны на двадцать шестое апреля две тысячи первого года составляло шесть миллионов четыреста тысяч человек! ) И все же не только благополучие делает страну и человека в ней счастливыми.
Анна, а родители ваши?..
— И папа, и мама, и бабушка — все здесь... Вначале мы с сыном и бабушкой приехали, а потом, через два года, отец и мама — в отпуск. Отец все ходил, ходил и на море смотрел, как и вы все, спрашивал: "Там Египет, там Синай, там гора Божия?"
Да, действительно, мы спрашивали Анну и понимали, почему и отец ее спрашивал. Дело в том, что Синай — гора, с вершины которой был дан евреям закон от Бога. Нас же гора Божия более всего интересовала потому, что там некоторое время укрывалась святая великомученица Екатерина и на одной из вершин до сих пор существует монастырь ее имени.
Естественно, в память своей прапрабабушки Екатерины, мы с женой хотели посетить сию древнюю христианскую обитель. Тем более, что из семейных преданий знали: прапрабабушка положила немало сил, чтобы побывать на Божией горе, но не побывала. Разбитые калиги, отсутствие воды, а зачастую и пищи настолько истощили ее, что она уже готова была помереть под испепеляющим солнцем пустыни. Ее спас проходивший мимо караван бедуинов.
Да, мы очень хотели посетить древнейшую христианскую обитель, а потому попросили Анну — открыть нам через турфирму однодневную визу для посещения монастыря. Она пообещала, что откроет, если это возможно.
...Если это возможно? Я обратил внимание, что Анна, невысокая "ростом, чуть-чуть приземистая и мягко-округлая фигурой, вдруг, когда ею овладевало желание — любое, даже такое ничтожное, как исполнение какого-нибудь предписания, какими грешат все туристические фирмы, — вдруг преображалась, становилась какой-то вытянуто-устремленной. Ее почти незаметные морщинки на лице обозначались более резко, приземистость исчезала, и сразу, словно в последнюю секунду старта, ощущалась сверхконцентрация напряжения.
— После отпуска, когда родители уже уезжали в Свердловск, отец сказал, что теперь у него есть цель в жизни и он не успокоится, пока они с мамой не переедут в Израиль. А он в Свердловске был очень большим начальником по строительству.
Родители приехали в Израиль в конце девяносто второго. На границе все более-менее ценное отобрали.
— А сейчас кем он работает? — спросила жена.
— Вначале в одной из строительных фирм — консультантом. Теперь пенсионер. Они довольны, живут в маленьком, но прекрасном коттедже.
В минуту, когда внутреннее напряжение спало и Анна позволила себе расслабиться (жена преподнесла ей пакет "фейерверков" для сына, и все мы, уютно развалясь в креслах, неторопливо попивали минералку), вдруг бросилось в глаза, что она стала как бы оттаивать. И только в обмелевших морщинках явственнее, чем прежде, обозначилась усталость, усталость, свойственная людям после длительного марафона. Невольно подумалось: загнанных лошадей пристреливают, не так ли?..
И я сказал:
— Жаль, конечно, но благосостояние не гарантирует семейного счастья так же, как юридически совершеннейшая эмансипация женщин даже в масштабах такой демократической страны, как США, не в состоянии заменить и одного, пускай плюгавенького, мужичонку.
— А это еще к чему, что за эскапада? — засмеялась жена.
Лицо Анны вытянулось, она усмехнулась.
— У меня есть мужчина.
Она посмотрела на жену, на ее лице было написано веселое торжество.
— И он очень даже не плюгавенький, я вас как-нибудь познакомлю.
Теперь в глазах жены не только смеялись, но и танцевали веселые бесенята, мол, что — получил, получил?!
Я пожал плечами.
— Думайте, что хотите, но я сказал, что сказал, без задней мысли — просто так.
— И я — просто так, — ответила Анна.
И, очевидно, желая закрепить произведенный ею эффект, философски заметила, что все приезжающие в Израиль (репатриантов она не имеет в виду) разделяются на три категории: собственно туристы, арбайтеры и пилигримы. Люди третьей категории наиболее многочисленны и, как это ни странно, наиболее незаметны, они проходят в большинстве своем, как вода сквозь песок, вне туристических фирм. Люди разных конфессий, исповеданий, рас, — они между тем очень похожи и являются сюда, как правило, замаливать грехи после какого-то тяжелейшего марафона. Они жаждут очиститься, потому что помнят, что загнанных лошадей пристреливают — не так ли? В это "не так ли?" Анна вложила какой-то не совсем понятный мне намек. Я даже сказал:
— Не понял.
— Кто не понимает, тот отдыхает, — вмешалась жена и перевела разговор на приглашение в ресторан, в котором нам предстояло праздновать Миллениум.
Вставая, Анна сказала, что к восьми вечера зайдет за нами и сама проследит, чтобы мы попали в соответствии с билетами в самый престижный Голубой зал.
Жена проводила Анну до лифта, а когда вернулась, попросила меня впредь быть более деликатным, что ли?!
— Она ревнует, — сказала жена. — Каждый наш пригласительный стоит тысячу двести долларов. Конечно, Анна не может позволить себе такого, а тут еще ты, паломник-знаток со своим "благосостоянием, эмансипацией и плюгавым мужичонкой".
— Но и мы такого не можем позволить. Тысячу двести?! Я и не знал! Влетим мы в копеечку нашей российской турфирме.
Я плюхнулся на кровать.
— Не знаю, надо ли пристреливать загнанных лошадей, но знатоков — безусловно.
Глава 5.
Новый тысяча девятьсот семьдесят четвертый год я встречал в Сингапуре. Наш супертраулер Давыдов стоял в Альберт-доке, и дирекция судоремонтного завода "Кеппел" пригласила нас на встречу Криссмаса (католического Рождества, празднуемого с двадцать четвертого на двадцать пятое декабря). Впрочем, в пригласительных меньше всего говорилось о Криссмасе, а больше — что завод устраивает Большой Прием для высшего комсостава судов, стоящих на ремонте. Будь по-другому, мы бы на прием не пошли: мне как замполиту и парторгу судна официально вменялась роль воинствующего безбожника.
Высший комсостав судна — это капитан, стармех, старпом и я, первый помощник. Капитан приказал форму не надевать, но всем намарафетиться. Да и зачем форма? Белая тенниска, галстук, черные брюки и черные туфли — чем не форма? В те достопамятные времена по этой экипировке можно было угадать русского моряка в любой точке Земного шара. Впрочем, тогда я был слишком молод и бананово-лимонный Сингапур был моей первой заграницей.
Чтобы не ударить в грязь лицом, я сходил в английский магазин "Лидо" и купил новый галстук. Замечательный серый галстук. Я отдал за него четырнадцать сингапурских долларов (синтетические демисезонные пальто, продававшиеся нарасхват на Владивостокской барахолке по сто двадцать — сто тридцать рублей, стоили здесь не более двенадцати долларов). Словом, я разорился, но "игра стоила свеч".
В ярко освещенном и, конечно же, скоростном лифте отеля "Хилтон", несущемся на тридцатый, а по-нашему — тридцать первый этаж (в Сингапуре, как и повсюду в дальнем зарубежье, счет этажей начинается с нуля), мы внимательно осмотрели друг друга и осмотром остались довольны. Очень сильное впечатление произвел мой галстук. Только капитан Геннадий Иванович выразил некоторое сомнение.
— У англичан, — сказал он, — все отличные галстуки серой расцветки, как правило, раскупаются клубами.
— Ну и что? — спросил я.
Замечание капитана показалось настолько малозначимым и неуместным, что я даже обрадовался, что он не успел ответить.
Мягко притормозив, лифт остановился. Дверь автоматически раздвинулась, и мы оказались в царстве стекла и электричества. Ряды зеркальных колонн, соединенных разноцветными гирляндами лампочек. Пальмы, увитые сверкающим дождем. Арки и мостики, украшенные китайскими фонариками и бумажными тиграми. (Кстати, под арками, ежесекундно меняя цвет, играла вода фонтанчиков.)
Возле ближайших колонн толпились приглашенные. Их было довольно много (в основном, европейцы), они внимательно слушали, точнее, внимали высокому спортивно-подтянутому молодому человеку. Чувствовалось, что среди распорядителей праздничного приема он — фигура номер один. Высок, элегантен — ну прямо Роджер Мур из кинобоевиков про Джеймса Бонда. А может, это и был Роджер Мур? (Тогда с сингапурских киноэкранов не сходил фильм с его участием "Живи и дай умереть". Муссировался слух, что эпизод столкновения Бонда с Железной рукой был снят именно на сингапурской ферме аллигаторов.)
Попросив уважаемое собрание (всех, стоявших под колоннами) пройти вглубь зала, "Роджер Мур" направился к нам. Почему? Ведь следом за нами подъехали еще три лифта, а в них человек пятнадцать таких же, как и мы, моряков. Однако он подошел к нам. Непринужденно улыбаясь, поприветствовал капитана. Пожимая руку, сообщил, что от имени дирекции завода "Кеппел" он рад видеть нас и надеется, что нам понравится здесь. В том же ключе сообщил стармеху, что в глубине зала нас ждет шведский стол и свободные столики. Старпому поведал о двух знаменитых исполнительницах стриптиза, приехавших из Канады специально на этот праздник. А мне он открыл, что горячительные напитки — водка и виски — уже разносятся официантами, а пиво в неограниченном количестве будет доставляться прямо на стол, который мы займем. И кивком он указал направление, куда идти, чтобы занять — свободный.
Все приветствия, а особенно разъяснения, мы воспринимали в переводе старпома. Он настолько хорошо знал английский, что изъяснялся, как англичанин. Во всяком случае, нам так казалось. Не знаю, почему "Роджер Мур" выбрал именно меня, чтобы открыть, — именно мне, — сценарий обеспечения спиртным? Но в тот момент его элегантность, ослепительная улыбка и доверительное рукопожатие внушили, что в этом есть некая особенная справедливость, возвышающая меня. Сценарий обеспечения столь высокого собрания горячительными напитками! Согласитесь, в этом что-то есть, что может получше спиртного вскружить голову. И тут я увидел, что у нас с "Роджером Муром" абсолютно одинаковые галстуки. Просверком вспомнились слова капитана, озадачившие в лифте, что у англичан все отличные галстуки серой расцветки, как правило, раскупаются клубами. Я задержал руку "Роджера" в рукопожатии и попытался сказать, что у нас с ним идентичные галстуки, должно быть мы из одного клуба? Любая остроумная шутка бьет влет, ее ценность в мгновении. Я упустил его. Мое мычание на английском, затянувшееся рукопожатие, хватание за галстук, которое, как потом сказали, было больше похоже на хватание за грудки, выламывалось за рамки протокольного приветствия. Я привлек внимание не только тех, кто прибыли за нами следом, но и многих, с кем "Роджер Мур" стоял возле колонн.
— Ви а фром зе сейм клаб...
Подскочил старпом.
— Что ты хочешь сказать — давай, переведу!
— Постой-постой...
Я мягко отстранил его и, как по мановению, все английские слова тоже как бы отстранились — вылетели из моей головы.
"Роджер Мур", воспользовавшись, что я, наконец-то, освободил его руку и, очевидно, уже заботясь о своем реноме, многозначительно взглянув на капитана, весело рассмеялся.
— Я надеюсь, это будет правильно понято... Пойдемте, я покажу ваш столик.
Он очень ловко повернулся (я оказался впереди него) и, взяв меня под локоть, увлек вглубь зала. Мы прошли несколько рядов колонн, и вдруг мосточки, арки, фонтанчики, а вместе с колонами и полог крыши отступили; перед нами, овалом вписываясь в интерьер, сиял бассейн. Мелкие широкие ступеньки так лениво сбегали в него, что казалось — это и не ступеньки вовсе, а слегка колеблющаяся зыбь.
Мы все невольно остановились. "Роджер Мур" сказал, что особенно красиво здесь, когда погасят свет, — тогда небосвод отражается, словно в волшебном блюдце. Я поднял голову — звезды горели, как горят алмазы на черном бархате.
Столик оказался сервированным на девять человек. По обе стороны от него в этом же ряду, напротив невысокого подиума с вишневого цвета роялем стояло еще два таких же стола. За одним из них сидели какие-то правительственные шишки, а за другим — представители дирекции завода.
Уходя, "Роджер Мур" опять весело рассмеялся и действительно как одноклубника похлопал по плечу: он надеется, что все будет правильно понято!.. В ответ я тоже засмеялся, но не искренне. "...Все будет правильно понято!" — царапнуло на этот раз, как гвоздем по стеклу. Однако престижность стола возымела свое действие. К нам попросились со своими женами регистры (с "Веритаса" — поляк Яблонский, закончивший наш Ленинградский кораблестроительный институт, и с "Ллойда" — югослав Месич, обслуживающий суда США). Потом к нашему столу придвинули дополнительный стул и к нам подсели: директор малого "Кеппела" Лонг и его "правая рука", главный строитель мистер Ау, в веденье которых как раз и находился ремонт нашего судна. Капитан обрадовался, а во время легкого волнения за столом (пришлось потесниться) не сказал, а выдал:
— Везет дуракам.
Кто тогда был дураком — понятно?! Но я не оскорбился, напротив, ко мне вернулось хорошее настроение. Однако с "везением" капитан явно поторопился.
Где-то в середине праздника (когда стриптиз был исполнен, а свет пригашен и разговор сник) к нашему столу, сплошь уставленному кружками с пивом, подошел официант с казак-водкой. С одной стороны подноса — наполненные рюмочки, с другой — закуска (кружочки поджаренной колбасы с воткнутыми в нее палочками, наподобие спичек, чтобы удобней было поглощать эту закусь).
Мы со стармехом употребили по рюмочке (и он, и я по определенным причинам пиво игнорировали), сидим, жуем колбаску. А колбаска поджаристая, похрустывает, лично я несколько кружочков уплел. И вот, дождавшись, когда я проглотил последний кусочек, стармех спросил:
— А теперь тебе как дегустатору — что за пища была на закусь?
— Известно, что — колбаса, домашняя поджаренная.
Стармех хмыкнул.
— Аспида ты съел, гадину, и, думаю, с высшим образованием.
— Не понял?!
— А что тут понимать, — стармех усмехнулся. — Змею мы уплели, кобру, причем очковую.
Наверное, я слишком резко потянулся за фужером с водой и полную кружку с пивом опрокинул на жену югослава Месича. Кружка угодила прямо в широкий подол.
Надо заметить, что в середине семидесятых американки расхаживали по Сингапуру почти неглиже, а иногда и босиком. Вместо привычных юбок надевали какие-то длинные цветные шторы, запахнутые внахлест. Малайцы подбегали, предлагали товары, всячески пытались угодить — американки! (Что с того, что они босые? Кошельки-то их всегда туго набиты "джорджиками"!)
Американка Сара была в желтенькой короткой маечке (виднелась загорелая полоска тела) и длинной шикарной юбке. Не знаю, что за немая сцена возникла за столом, и сколько она длилась, не ведаю.
Заиграла музыка, я взял кружку из рук Сары и поставил на стол, а Сару пригласил танцевать. Позже старпом говорил, что я был элегантен и обаятелен, не хуже "Роджера Мура", всех ослепил своей улыбкой. На это — ничего не могу сказать. Помню, что мы танцевали с Сарой танцев десять подряд. Когда подошли к столу — не только все было забыто, но и юбка давно успела высохнуть. Югослав Месич, добродушно улыбаясь, дал свою визитку и пригласил меня посетить их сингапурское жилище. Капитан многозначительно взглянул на меня, а когда мы уже были на судне и обсуждали в его кабинете подробности так называемого Большого Приема, опять резюмировал: "Везет дуракам!"
Теперь его резюме показалось изощренной подначкой. Чтобы не нагрубить, резко вышел из кабинета — такого везения я не мог пожелать никому.
— Вставай, поднимайся рабочий народ!.. Ишь, плюхнулся и дрыхнет.
— А в чем дело?
— В том, что пора собираться на Миллениум.
— Миллениум, криссмас — эти слова мне кажутся похожими, в них нет ничего русского.
— Ну, и?!..
— Это вызывает опасение.
Глава 6.
Без десяти восемь вечера пришла Анна. На ней было очень красивое серо-голубое платье с блестками и золотая цепочка с пустотелой, в форме ладони, хамсой. Прическа под мальчишку так шла ей, что, имея в виду народное назначение хамсы (так в Израиле называют оберег, предохраняющий от сглаза и, вообще, от всяких злых духов и напастей), я сказал:
— Уверен, что многие, очень многие будут глазеть на вас с завистью, но сглазить — не удастся. Они будут ослеплены. И это-с непременно-с.
Жена поддержала меня, И сразу натянутость пропала. Анна стала мягкой, добросердечной и даже какой-то домашней. Она похвалила предновогоднее убранство комнаты, особенно ей понравилась китайская мишура, которая отражалась в зеркалах и переливалась всеми цветами радуги. Очень деликатно, чтобы это не выглядело ответной лестью, восхитилась нарядом жены. А оглядывая меня, сказала, что давно не видела мужчин по-настоящему в черном и по-настоящему элегантном костюме.
— От Лемонти, — сообщила жена, зная, что все американское находит в Израиле неукоснительное одобрение.
Таким способом она хотела задержать на мне внимание Анны, но костюм, как ныне говорят, он и в Африке костюм.
— Единственная в нем ценность, так это — что ты его купила, — брякнул я без всякого умысла, без цели польстить жене.
Анна и жена, как по команде, переглянулись, и жена так радостно зарделась, что невольно и я по-новому посмотрел на нее.
На ней была блестящая балахонистая сорочка фиолетового цвета с металлическим, едва заметным, красноватым отливом и овальными разрезами по бокам; темно-красная юбка с вытянутыми "угластыми" концами, касающимися белых, я бы сказал, декольтированных туфель и жемчужное колье. Вот и все, но это "все" так шло к ее короткой стрижке и было так неожиданно для меня, что вдруг вырвалось:
— Ничего себе!.. Впервые вижу... Где ты все взяла?!
— Где взяла, где взяла! — Купила! — отрезала жена, и они с Анной так весело рассмеялись, что и я засмеялся, хотя черный юмор анекдота про мужика, "купившего" топор, показался мне здесь не совсем уместным.
Впрочем, все уместно, что объединяет людей и настраивает на добро. А с нами, кажется, как раз это и произошло. Жену осенило:
— Надо так сделать, чтобы на Миллениум вместе с нами попала и Анна. А что тут такого, как-нибудь потеснимся за столом, а всякие кушанья и вино — нам двух порций вполне хватит на троих. Главное — праздник, Миллениум!
Все-таки наш советский менталитет неистребим. Общежитие, коммуналки и общие кухни — это не только раздоры, это, как говорится, еще и впитанное с молоком матери чувство коллективизма. Конечно, с ним не хотелось расставаться, поэтому мы и придумали "социализм с человеческим лицом". Однако всюду, где попытались скрестить его со свободным рынком, получили не лицо, а козью морду. В идеале: социализм и рынок — неконкурентоспособны, исключают друг друга.
— Ты что молчишь, опять куда-то удалился, отсутствуешь? Ну-ка, возвращайся!
— А что возвращаться? Что коллективизму хорошо, то доллару — смерть.
— А это еще к чему?
Жена недоуменно развела руками, а потом возмутилась, что я вечно умничаю, когда не надо, когда надо всего лишь согласиться с ней...
В конце концов, решили, что, как получится — так тому и быть, подумаешь, Миллениум! По сути — обычный новогодний вечер. К тому же Анне в любом случае нельзя надолго задерживаться с нами, у нее встреча с тем самым "очень даже не...", в общем, со своим колоритным мужчиной.
В двадцать десять мы спустились на первый этаж, почувствовалось дыхание приближающегося праздника. (В лифте ехали богато и со вкусом одетые люди, леди и джентльмены — никак не скажешь: товарищи.) Мы нарочно приотстали и пошли мимо каббалы (так здесь называется место расположения дежурящей администрации). Анна свернула к стойке, чтобы уточнить какую-то свою информацию. Дежурные, как по команде, встали и вышколено кивнули, поприветствовали. Потом мы вошли в проем темно-синей полусферы и, прошествовав мимо стеклянных колонн, заполненных водой (в которых, благодаря подсветке и пузырям воздуха, поднимающимся вверх, создавалась иллюзия бесконечно текущей бриллиантовой цепочки), вдруг сразу за приоткрытым голубым пологом очутились в большом и высоком зале.
Космический корабль и мы, как каменные изваяния с острова Пасхи, смотрящие в небо. Да-да, потолка нет, над нами плотный туман. Зал ярко освещен и полон народа, именно народа, выделить кого-либо невозможно, лица заволакиваются паром, как при двадцатиградусном морозе.
Вначале мы подумали, что не справляются кондиционеры, потом почувствовали, что в помещение вместе с воздухом нагнетается холод искусственного, точнее, сухого льда.
— А это еще что за памятники? Посреди зала, на некотором расстоянии друг от друга, возвышались три огромных сооружения, накрытых полотном.
— Ансамбль — в честь Миллениума, — вполне серьезно сказала Анна, а жена пояснила, мол, первый памятник — Новому году, второй — Новому веку, третий — Новому тысячелетию. Все сходится.
— И все же предлагаю заглянуть под маскхалат, удостовериться.
Однако заглянуть не удалось, объявили "посадку". Все, словно в накопителе, всколыхнулись и, увлекая нас, потекли к проему раскрывшегося двойного занавеса. Кстати, в промежуток между занавесами, который отделял, скажем так, зал-накопитель от салона кают-компании корабля, тоже нагнетался холодный воздух. Но прохлады не было, потому что мы продвигались не только медленно, но еще и впритирку друг к другу.
Наконец Анна подала наши пригласительные, и мы оказались в свободном пространстве занавесов. Это было такое отдохновение стоять в прохладных волнах тумана и лицезреть лазерно-пронизывающие голографические лучи! Лучи исходили пучком, точнее, расходящимся из одной точки веером. Казалось, что веер вращался и, перескакивая из одного луча на другой, кружились в танце веселые разноцветные человечки. Они кружились в воздухе, в пустоте, невольно являя фантазии о НЛО и экзотических элонавтах.
— Итак, нас приглашают в машину времени.
— Только двоих приглашают, только двоих, — шепнула жена, сжав мою руку.
— Сейчас они проведут вас и усадят за лучший стол.
Они — молодой человек и девушка в форменных элегантных костюмах служителей отеля. (Сочетание темно-синего и белого цветов в их нарядах было настолько гармоничным, что казалось даже изысканным.) Меня и жену пригласили идти за ними. Я попросил Анну, чтобы она перевела, что мы хотим в ее присутствии занять отведенные нам места.
Не буду пересказывать всего разговора, полного многозначительных взглядов и жестов. В итоге и они, и мы вместе с Анной вошли в большой, но довольно уютный зал.
Вместительные круглые столы были накрыты белоснежными скатертями и сервированы на восемь человек каждый. Единственный стол, который был не круглым, а эллипсовидным, и не на восемь персон, а на девять — был наш.
Длинный со скошенными углами, он стоял в глубине зала, в левой его оконечности. Сразу за ним, на некотором расстоянии, располагался голографический аппарат, а чуть ближе — справа, находилась обширная танцевальная площадка. За нею, на ступенчатом подиуме, обосновался эстрадный оркестр (музыкальные инструменты еще "отдыхали" — истекали золотом и серебром).
За столом уже сидели мужчины, женщины и один подросток. По просьбе сопровождавших нас распорядителей, они потеснились и для нас придвинули дополнительный стул. Просверком вспомнилось: а ведь и в Сингапуре стол был на девятерых, а нас уселось — десять! И тоже дополнительный стул придвигали, и подиум, и рояль... все-все тоже было напротив...
— Вот, пожалуйста, занимайте свои места, — сказала Анна и слегка раздвинула свободные стулья.
Во всем ее облике сквозила уже знакомая устремленность и еще — отсутствие всякой щепетильности.
— Вы действительно считаете этот стол самым лучшим, самым престижным, ну, в общем, самым-самым? — стараясь не привлекать внимания, полюбопытствовал я.
— А вы сомневаетесь? — удивилась Анна и стала во всеуслышание перечислять его преимущества.
Ее перебили служащие отеля, — что-то сказали на иврите и пошли назад, к выходу из зала.
— Беспокоятся, чтобы я не осталась с вами, — прокомментировала Анна.
— Но?..
— Никаких "но", май френд уже заждался.
Она посмотрела на часы, готовая идти к своему френду, но я остановил ее. Сказал, что ни за что не сяду за этот самый престижный стол, потому что с некоторых пор подобные столы навевают на меня тоску, особенно перед Новым годом.
Анна не восприняла моего заявления, сочла за неуместное чудачество, но тут вмешалась жена, почувствовала, что за этот стол я не сяду ни за какие коврижки.
— Нет-нет, Аня, ты уж, пожалуйста, найди этих красивых молодых людей (имелись в виду только что сопровождавшие нас распорядители) и скажи им, пусть посадят нас за другой стол.
Жена сказала это с той внутренней силой, которая порой и меня делала беспрекословным.
— Гала, ты что?!
— Ни что! — отрезала жена.
Мы замолчали, глядя вглубь зала, а на самом деле погруженные в самих себя, если хотите, в свой внутренний мир, которым сейчас я как будто поменялся с нею, потому что в каждом уголке, в каждом изгибе души чувствовал не себя, а ее спасающее присутствие.
Опять беготня, опять то — другое. Мы с женой молчаливо стояли, как на бреге, наблюдая постепенно опадающие волны человеческой суеты.
— А чем, собственно, вас не устраивает наш стол, — мы все здесь говорим по-русски? — сказал мужчина средних лет в черном смокинге, сидящий за соседним столиком, у которого мы остановились и, очевидно, ставший свидетелем нашего разговора с Анной.
Я улыбнулся. В нужную минуту добродушие и прямота дорогого стоят.
— Нас устраивает ваш стол, но теперь надо дождаться попечительниц, — и, чтобы перевести разговор, спросил: — Вы говорите по-русски потому, что так же как и мы, не знаете других языков?
Мужчина в смокинге улыбчиво переглянулся с сидящими за столом. (С ним рядом сидела очаровательная дама в красном, чуть дальше ее — дочь-подросток лет тринадцати и плотный здоровый мужчина с молоденькой особой, видимо, женой.)
Воспользовавшись паузой, ответила дочь-подросток.
— Мы говорим по-русски потому, что русский — наш родной язык.
За столом засмеялись, а я только развел руками, мол, больше вопросов нет.
Вернулась Анна с распорядителями. Мужчина в смокинге встал и, опередив меня, сказал им что-то по-английски, указывая на свободные места. Они посмотрели на нас с женой, потом на Анну.
— Вы согласны сесть за этот стол? (Я кивнул.) Тогда садитесь, — сказала Анна и устремилась, именно устремилась вон из зала.
Распорядители остановили ее, о чем-то попросили, а сами пошли, как я понял, улаживать очередные недоразумения.
Анна подошла, наклонилась ко мне, я подумал, что сейчас выразит неудовольствие, но она шепнула:
— Вы — молодчина, проучили их.
И уже — моей жене, но так, чтобы все услышали:
— Попросили — побыть с вами.
— Так в чем же дело, — с готовностью отозвался мужчина в черном смокинге. Сейчас придвинем стул и — все дела.
Анна не позволила придвигать — ей некогда, опаздывает.
— Май фрэнд?! — едва слышно сказала жена.
— Естественно, — ответила Анна.
Они многозначительно переглянулись и засмеялись так весело, словно подружки.
Глава 7.
Прошло три часа. Дорогие гости кушали и выпивали. И еще — танцевали и разговоры разговаривали. Справа от меня сидел мужчина в черном смокинге, а слева — Гала, моя жена. Сразу за нею — молоденькая особа в голубом и ее муж, плотный здоровый мужчина. Все мы, как это водится за ресторанным столом, бегло перезнакомились, но в громе внезапно грянувшей музыки имен молоденькой особы и плотного мужчины я не расслышал. А вот с мужчиной в смокинге и его семьей познакомились по-настоящему, то есть даже визитками обменялись. На совершенно черной стороне, слева, из уголка в уголок был обозначен полукруг из одиннадцати белых звездочек — очевидно, количество дочерних фирм. Справа, в верхней части, крупно ELAG, рядом, с наплывом на заглавные литеры, — две буквы nv. Чуть ниже, в одну строку, — Distributor и совсем уже мелко (мельче мельчайшего шрифта) — Rhitorique. В общем, по-русски усвоилось: Евгений Михайлович Трегуб — бизнесмен из Антверпена, торгующий дизайном и одеждой от (разгадка — в мельчайшем шрифте)... дома "Риторик". Что это за дом — не знаю, но предполагаю, что смысл его надо прочитывать как бы в контексте: "от... Зайцева, Версаче, от... Юдашкина, от... Риторик" и так далее... Жена Евгения Михайловича, очаровательная дама в красном — Оксана, домохозяйка. Впрочем, прислуга тоже имеется. Дочь-подросток — Вика, учащаяся.
— На поле брани мы — тезки! — весело сказала она и пояснила: — Потому что Виктор и Виктория это — Победитель и Победа.
— А наш стол и есть поле брани, — в тон ей ответствовал я, кивнув на обилие вин и всевозможных яств.
Вика взглянула на отца, который, как бы не слыша о чем речь, вдруг так энергично стал пилить ножом кусок мяса (демонстрировал — он в бою, он на поле брани), что мы с Викой и все, кто участвовал в нашем разговоре, весело рассмеялись.
Впрочем, на столе наряду с обилием вин и яств стоял, возвышаясь, зеркальный шар, похожий на глобус. Глобус медленно вращался вокруг своей оси, и движение света и тени, отражаясь в его мелких и зернистых квадратиках, чем-то напоминало дышащее сияние жара. Во всяком случае, в полусумраке пригашенных люстр отсвет на лицах казался отсветом живого огня. Именно в эти минуты вдруг включался голографический аппарат и прямо над нашими головами, от одного шара к другому, через весь зал вспыхивала зигзагообразным росчерком зеленая дорога. Точно молния, вдруг взрезала пространство и застывала. А через секунду на ней появлялся катящийся вал, который с приближением нарастал и распадался на веселых бегущих человечков, несущих огромный транспарант. Они бежали от одного зеркального шара к другому, и мы видели их и в фас, и в профиль, то есть во всех ракурсах. А когда они возвращались назад, на транспаранте отчетливо читалось: MILLENIUM! Ткань транспаранта и одежда человечков то как бы наполнялась встречным ветром, то, когда менялся угол зрения, опадала. Это было так интересно, так правдоподобно — не оторвать взгляда! Впрочем, во всем, даже в порывах ветра, ощущалась линейная, математическая выверенность. Все совпадало, как совпадают фигуры в синхронном плавании или в парном катании на льду. Мне кажется, нас притягивала и завораживала в голографических изображениях некая нереальная реальность. Всякий раз, наблюдая бегущих человечков, их компьютерную выверенность движений, мне невольно вспоминался другой праздник.
Собственно не праздник даже, а выступление двух девушек, исполнивших перед нами модный тогда на Западе танец, — стриптиз.
Наш огромный стол в центре. От нас до невысокого подиума, на котором стоит вишневый элегантный рояль, всего метров шесть—семь. Распорядитель-англичанин оставил нас одних (регистры — поляк Яблонский и югослав Месич пошли искать своих жен, чтобы уже всем вместе пересесть за наш стол). В предвкушении раздевания стриптизерш, выписанных из Канады, мы заняли лучшие места для обозрения.
— Хе! — воскликнул стармех и самодовольно потер руки. — Посмотрим, посмотрим, как капитализм загнивает и разлагается, — и уже — мне: — "Шарф срывает, шаль срывает — мишуру, словно с апельсина кожуру!" Ну, замполит, как бы голова не закружилась от тлетворного духа — хе! Он опять потер руки, и мы невольно засмеялись. Что ни говорите, а в советское время мы представляли культуру Запада не столько по вражеским радиостанциям "Би Би Си", "Голос Америки" и "Свободная Европа", сколько по живым впечатлениям таких "выездных" поэтов, как Андрей Вознесенский, Евгении Евтушенко, Роберт Рождественский .
Между тем регистры и их жены уже за столом, а через зал к подиуму идут две девушки-стриптизерши. Они одеты в голубые с красной оторочкой костюмы: матросские блузы с большими прямыми отложными воротниками и расклешенные мини-юбки. На головах у них голубые береты с красными помпончиками, а на ногах туфли с соответствующими пряжками.
Девушки были весьма хороши собой — весьма. Они шли через зал друг за дружкой, то есть впереди шла, что поменьше ростом, более миниатюрная. А за нею — та, что повыше, но, может быть, поэтому и более естественная. Во всяком случае, из двух девушек я всякий раз отдавал предпочтение той, на которую в данную секунду смотрел. Каждая из них была настолько совершенной и привлекательной, что они казались сестрами-близняшками, восприятие которых в отдельности, то есть одной без другой, было просто немыслимым.
Девушки шли через зал, заиграла музыка — "Лунная соната". Они остановились и, синхронно подняв правую руку, левой — так же синхронно, взяв щепотью юбочку, дважды сделали — книксен, причем на обе стороны. Потом, проходя между столами, они проделывали это несколько раз, и зал отвечал им вполне радушными аплодисментами.
Наконец они достигли подиума, но не взошли на него, а, встав рядом, повернулись к нам и, улыбаясь (в жизни не видел таких красивых белозубых улыбок), опять сделали книксен. Девушки были всего в пяти шагах от нас, и мы, естественно, приняли их приседание в свою честь. Наверное, девушки это почувствовали по нашим аплодисментам, весело переглянулись и в ту же секунду, подняв руки вверх, разом хлопнули в ладоши, как это делают волейболисты, поздравляя друг друга с удачно отыгранным мячом.
Пианистка взяла аккорд, которым подала сигнал стриптизершам — приступить к танцу. И они приступили. И с этой секунды все их движения были настолько синхронными, что внезапное выпадение некоторых жестов из общего ритмического рисунка (все-таки неизбежное в любом живом танце) невольно воспринималось нами не иначе как дополнительный штрих удивительной синхронности. В эти мгновения мы наблюдали как бы два сообщающихся сосуда: движение огня в одном неизменно отзывалось продолжением огня в другом. Да, да, девушки раздевались, но на память приходили стихи не о срывании шали, а бессмертные строки Заболоцкого:
...А если это так, то что есть красота,
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Именно, именно эти строки вспоминались потому, что никакого раздевания со срыванием одежд, как мишуры, не было. Одно плавное движение — и воротники отстегивались и, как по мановению, взлетали над головами. И девушки танцевали уже не в морских, а в подчеркнуто декольтированных блузах. Ты еще не успел насладиться их новым обликом, а широкий голубой пояс уже отделился от блузы, и каким-то непонятным образом уже и рукава скользнули на пол. Теперь ты созерцаешь девушек в коротких маечках. Несколько музыкальных тактов, взмах — и стриптизерши опять в новом наряде. Золотистое великолепие загорелой кожи, с каждым новым па все более и более обнажавшейся, вызывало такое же восхищенное смятение чувств, какое, очевидно, испытывает альпинист, совершающий подъем на запредельную вершину. Или живописец, пренебрегающий общественным мнением и с замиранием пишущий Божественную наготу женского тела.
...А если это так, то что есть красота,
И почему ее обожествляют люди?..
И вновь, подняв руки вверх, девушки приветствуют друг друга. И вновь аккорд, взятый на фортепиано, возвещает им, что пора продолжить танец.
И они продолжили, только теперь они не раздевались, а одевались. Длинноногие и изящные, в костюмах акробаток, то есть в атласно-блестящих бюстгальтерах и таких же атласно мерцающих плавках, они были самим совершенством. Казалось, что уже ничто не может прибавить им в красоте. Но — нет, каждая полосочка ткани, красный поясок, которые они надевали на себя (оказывается, одежда стриптизерш была двусторонней: голубой с красной оторочкой и красной — с голубой), прибавлял им не только в изяществе, но и в звучании синхронности движений. Да, с каждым новым па девушки становились все прекрасней и прекрасней, и, наконец, разом подняв одну руку вверх, а другой взяв щепотью свою юбочку, они сделали книксен и на несколько секунд застыли — танец закончился.
В зале раздались аплодисменты, а за нашим столиком особенно горячие: мы ждали скандального танца притонов "...шарф срывает, шаль срывает — мишуру...", а тут, как выяснилось, совсем другое, — поневоле отзовешься. Впрочем, горячие аплодисменты — это еще куда ни шло, а вот внезапные выкрики стармеха: "Бис, бис!", — привели наших регистров и их жен в явное замешательство. Некоторые гости за соседними столиками стали поглядывать на нас с откровенно веселым изумлением — извращенцы эти русские, требуют повторить. Им и в голову не приходило, что в основе нашей "извращенности" была наивность девственников, не ведавших — что творят. Благо, капитан пресек восторги стармеха, послал его к шведскому столу за креветками.
Девушки-стриптизерши, покидая зал, остановились у нашего стола и, весело улыбаясь (очевидно, стармеховское "Бис!" тронуло их), сделали в нашу честь книксен. Точнее, не сделали, а преподнесли в подарок. Это было так здорово, что вместе с нами аплодировали даже те из гостей, которые вот только что смотрели на нас достаточно осуждающе. Мы были польщены, а капитан, воспользовавшись тем, что нет стармеха, наклонился ко мне через его пустой стул, и сказал уже известные слова: "Везет дуракам!"
— Ты что такой печальный? — толкнув в бок, сказала жена. — Давай, возвращайся, хватит мечтать, надо и нам потанцевать немножко.
Веселые человечки все еще перемещались по зигзагообразной дороге над нашими головами. Они фланировали без цели, единственное оправдание — транспарант с надписью: "MILLENIUM".
Ha подиуме нельзя было пошевелиться, все танцевали — строго на одном месте. Народ был в основном разношерстный и в преимуществе сорокалетний. Английская речь зачастую перемежалась русской. Если бы я не знал, где нахожусь, то вполне допустил бы, что мы с женой попали на новогодний вечер в какое-нибудь спецНИИ, где нет завлабов только потому, что им не хочется стеснять своих великовозрастных работников, засидевшихся в младших научных сотрудниках. Да-да, очень живо представлялось, что мы на празднике младших научных сотрудников. Впрочем, мы и сами себе казались засидевшимися в сорокалетних!
— Нет, это невыносимо — такая давка и жара!
— Ничего подобного — замечательно! Сейчас все танцуют в подобных условиях, — удержав меня, сказала жена.
— Я вижу, что тебе, как бывшему ученому секретарю (жена десять лет проработала ученым секретарем Алтайского филиала ВНИИМСа), очень уж по душе общество сорокалетних "младших научных сотрудников".
— Сорокалетних — да, а вот младших... Все это время она, двигаясь, принуждала меня танцевать, а тут застыла, задумалась — потом сказала:
— Нет.
Общество престарелых "младших научных сотрудников" ей не по душе.
Она потянула меня с танцплощадки к нашему столу, за которым, как это ни странно, никого не было.
Я снял пиджак и, вешая его на спинку стула, заметил, что до двенадцати часов (по местному времени было ровно двадцать три тридцать) мы все сваримся в этой духоте. Неожиданно музыка прервалась и умолкла, по местной радиотрансляции прозвучало объявление. Мы толком не поняли, о чем речь, выручил Евгений Михайлович, он вынырнул откуда-то из-за спин (началось массовое движение людей к выходу).
— Побежали быстрее — в вестибюль, там сейчас будет встреча с Иосифом Кобзоном, — мои уже побежали, — явно поторапливая, сказал он.
— Это что же, все двинулись на встречу?! Мое искреннее изумление развеселило Евгения Михайловича, и он сказал, что Иосиф Кобзон здесь ни при чем, люди пошли на лужайку, во двор, именно там в ноль-ноль часов произойдет празднование Миллениума с шампанским, иллюминацией и фейерверком.
— Мы не побежим смотреть Кобзона, мы пойдем с "младшими научными сотрудниками" на лужайку, — преувеличенно серьезно ответствовала жена.
В ответ Евгений Михайлович улыбнулся и исчез, а мы, неторопливо встав из-за стола, медленно пошли за так называемыми "младшими научными сотрудниками". В зале-накопителе с "памятников" была снята белая полотняная материя и нашему взору предстали гигантские торты, упирающиеся едва ли не в потолок. В них действительно было что-то от многоступенчатых ракет.
Мы подошли к средней "ракете". Первая "ступень" была клубничной и очень соблазнительной. Огромный самовар на отдельной тумбе, пакетики с чаем, стаканчики, стопки тарелочек, ножей и лопаточек развеяли все сомнения. Следом за нами заинтересовались "ракетами" и другие "космонавты". Вскоре "космическая тема" в среде "младших научных сотрудников" стала главной. Но мы ретировались не поэтому, — решили подняться в комнату и вооружиться фотоаппаратом, чтобы запечатлеть себя и окружающих среди иллюминации и фейерверка.
Мы оказались на лужайке, примыкающей к бассейнам без пяти двенадцать.
Это, знаете, очень волнительно — вдруг ощутить, что на часах истекают последние пять минут Второго тысячелетия. Через пять минут нашествие татаро-монголов и Куликовская битва, нашествие французов и Бородинское сражение, Первая мировая война и Октябрьская революция, Вторая мировая война и Победа над фашистской Германией, — все-все останется как бы на другом берегу времени. Подумать только: мы родились в одном тысячелетии с Ярославом Мудрым и Александром Невским, Сергием Радонежским и Дмитрием Донским, Патриархом Никоном и Петром Великим, Суворовым и Пушкиным. И уже в наше время жившими и одухотворявшими Двадцатый век: Дмитрием Менделеевым и Владимиром Вернадским, Михаилом Шолоховым и Георгием Свиридовым. О, сколько их, великих и гениальных, добрых и злых останется сейчас там, на том берегу Реки Времен! Да, это очень волнительно, вдруг ощутить, что ты — не просто ты, а живая соединительная ниточка тысячелетий.
Глава 8.
Утро Нового тысячелетия встретило нас солнцем, блеском новогодних гирлянд, отраженных в зеркале, и букетом живых голубоватых барвинок. Еще на столе стояла чашка со свежей клубникой и две коробочки (подарки отеля "Дан"). Одна, продолговатая, с карманным фонариком на случай сбоя компьютеров и отключения системы освещения (всюду ожидалось, что компьютеры покажут вместо двухтысячного — тысяча девятисотый год). Другая — квадратная, которой вчера не было.
Тихо, чтобы не разбудить жену (мы с нею, словно студенты-практиканты или, что одно и то же, младшие научные сотрудники, гуляли далеко за полночь), я вышел на балкон. Внизу, на лужайке, рабочие разбирали столы. Сдвинутые торцами и накрытые единой скатертью-дорожкой, вчера они ломились от обилия бутылок и фужеров — вот уж действительно шампанское лилось рекой. Помнится, следом за нами на лужайке появилась семья Евгения Михайловича. Вначале Вика и Оксана, а потом и он сам с плотным мужчиной и молоденькой дамой в голубом. Мы только что успели наполнить фужеры, сверить часы и чокнуться. (Ох уж эти разовые фужеры из прозрачного пластика! Чокнуться-то чокнулись, но с таким же успехом можно чокаться войлочными тапочками.)
— Вы, конечно, уловили хрустальный звон?
Вместо ответа все рассмеялись. Со стороны отеля с башенками и мосточками раздался отчетливый хлопок, и высоко вверху, прямо над нашими головами, разорвался вначале один шар с разбегающимися огнями, потом второй, третий, а дальше — считать стало бесполезно. Шары рассыпались на мелкие разноцветные огни: золотые, зеленые, красные, в общем, всех цветов радуги. Они наплывали друг на друга и смешивались, образуя причудливые пространственные фигуры. Иногда они напоминали огромные светящиеся одуванчики, иногда — кроны распускающихся пальм, а чаще — осыпающиеся листочки вербы, вибрирующе серебрящиеся, как водная рябь. Но особенно мне нравились струйчатые ракеты, разом стартующие из одной точки-звездочки. В моем воображении они отождествлялись с картиной разбегающейся вселенной. Как бы там ни было, но каждые несколько секунд в небе появлялись фигуры настолько необычные и фантастические, что мы все, находящиеся на лужайке, не сговариваясь, встречали их общим восторженным воплем. Но по-настоящему восторг достиг апогея, когда фейерверочные хлопки раздались со стороны моря, с кораблей. Праздничные огни, отраженные на глади бухты, скользяще спускающиеся с высот и симметрично поднимающиеся из глубин — это не поддается описанию. Взрывы восторженного вопля теперь доносились и с набережной, и из соседних отелей, весь город участвовал в представлении. Должно быть, для подобного действа греки и придумали слово — апофеоз. Что-то сравнимое доводилось видеть во Владивостоке, в День военно-морского флота, и в Сингапуре — в ночь под Новый год. Вообще все народы Ближне- и Юго-Восточных стран — большие умельцы и обожатели мишуры, фокусов и фейерверков.
Я посмотрел в сторону пальмовой рощи, но взгляд остановился на уже знакомом табло с цифрой "2000" и надписью "MILLENIUM". Полотняный солдатик (в сиянии солнца сахарно-белый) все так же переламывался в поясе и все так же непредсказуемо размахивал руками. Он словно разгонял невидимых злых духов. Потом вдруг вскидывался и застывал над табло, над пальмовой рощей, как бы в ожидании условного сигнала, который ему подадут с какого-нибудь корабля или внезапно всплывшей подводной лодки. Но пустынной была акватория бухты: ни судна, ни лодки, ни даже лодочки. И солдатик опять переламывался и опять разгонял невидимых злых духов. Стоп! Я задержал взгляд на надписи — этого не может быть! Я быстро вошел в комнату и, неосторожно шурша оберткой, достал тенниску, которую вчера вручили моей жене представители администрации отеля. А вручили потому, что, вернувшись с лужайки, мы не обнаружили на своих стульях предназначенных нам пакетов как раз с этими пресловутыми теннисками. Все заволновались — приходила какая-то женщина и забрала пакеты, никто даже не понял, почему. Евгений Михайлович так близко к сердцу воспринял случившееся, что подозвал уже известных молодого человека и девушку, распорядителей праздника, и объяснил ситуацию. Через некоторое время моей жене они вручили пакет, а мне, увы, не хватило. Как хотите, я дал зарок, что больше никогда не остановлюсь в отеле "Дан". Да — обиделся! У нас, русских, есть примета: как встретишь Новый год — таким он и будет. Как говорится, — есть, на что обидеться.
Но вернемся в номер. Неосторожно зашуршав оберткой, я разбудил жену.
— Что ты там ищешь? — поинтересовалась она.
— Разглядываю тенниску.
Завернувшись в простыню, она вышла из-за плетня (перегородки), как привидение. Я даже слегка вздрогнул:
— Ну, ты кого угодно заикой сделаешь! Тенниска лежала на стеклянной столешнице и словно парила в воздухе. Прозрачность стекла придавала ей сверхъестественные свойства.
— Ты сам хорош, — сказала жена и вдруг восторженно ужаснулась. — На расстоянии — будто и не тенниска, а гоголевская чертова свитка, вроде как сама по себе в воздухе!
Я объяснил ей, что чертова свитка из "Сорочинской ярмарки" была огненно-красного цвета и без одного рукава, а тут два рукава отсутствуют. Я привлек ее внимание к рисунку на тенниске (человечкам в разноцветных одеждах, танцующим на фоне бухты и гор, из-за вершин которых поднималось оранжевое подсолнухообразное солнце).
И солнце, и горы, и танцующие на фоне бухты — все тут было как бы позаимствовано с пейзажа, открывающегося из нашего окна. Вот только сама разноцветность человечков и надпись под ними "Millenium" казались срисованными с голографического изображения.
— Посмотри внимательно на надпись, — сказал я. — И сравни с надписью на табло.
— Ничего себе! — удивилась жена. — Они что здесь — малограмотные? Лишнее "n" в слове "Millenium".
— Так точно, — ответил я. — И причем не в первый раз!
Теперь все, что хоть как-то компрометировало отель "Дан", я воспринимал с удовлетворением.
— Ты только посмотри, как здорово — живут же люди! — воскликнула жена, захваченная красотой пейзажа, открывшегося с балкона. — Давай пойдем позагораем, все равно сегодня все закрыто — суббота, шабат!
Она сдвинула простыню, обнажив и плечи, и руки.
— Теплынь, будто у нас в хороший августовский день!
Я вернулся в комнату, вспомнил, что на столе лежала коробочка с каким-то очередным подарком. Каким?! Я был уверен, что и он каким-то образом разоблачит администрацию отеля, предстанет новым вещественным доказательством ее, мягко говоря, несолидности.
Жена последовала за мной, предлагала позавтракать и, не мешкая, идти загорать.
— Сейчас-сейчас, они тут еще один подарочек преподнесли!
— А что, это предосудительно преподносить подарки в Новый год?
Вопрос показался чересчур вызывающим.
— А в чем дело?
— А в том, что тебя интересует не подарок, как таковой, а возможность уличить администрацию отеля в их очередной, на твой взгляд, несостоятельности.
Запрыгнув на кровать и кутаясь в своей простыне, она стала говорить мне, что нельзя быть таким занудой. Что лишняя буква "n", быть может, вовсе не результат безграмотности и безмозглости, а как раз напротив... Возможно, в преддверии столь грандиозного праздника слово "Millenium" предусмотрительно запатентовано какой-нибудь фирмой, и его нельзя использовать.
— И они, администрация отеля, — подхватил я, — во избежание всяких финансовых скандалов добавили лишнюю букву "n"!
— Вот именно, — даже с превосходством согласилась жена. Я ухватился, мол, ради наживы все побоку: и правописание, и достоинство, и простое уважение к человеку — главное нажива. С администрации "Дана", в своей запальчивости, я переключился на всех евреев во все времена.
— Еще в Евангелие от Матфея сказано: "И вошел Иисус в храм, и изгнал всех продающих и покупающих в храме, и столы менял опрокинул, и прилавки продающих голубей".
А в восемнадцатом веке?! Не кто-нибудь, а еврей М.А. Ротшильд первым в мире придумал ростовщичество, то есть ссуживал деньги под проценты. До него этого никто не делал, в ломбардах выплачивались ссуды под залог движимого имущества, а он, Ротшильд, ввел в практику учреждение, в котором под проценты давались живые деньги. По сути, он создал первый в мире банк и является родоначальником всей существующей ныне банковской системы.
— Умнейший человек был этот Ротшильд.
— Изобретатели атомных и водородных бомб тоже были и умными, и гениальными, и даже добрыми были, а на поверку...
— Да хватит тебе... собрал все на свете и все в мировом масштабе, — перебила жена. — А на поверку одна только мелочность... Ну, слямзили твою тенниску, ну пусть даже присвоили — ну и что?! Давай, теперь из-за нее устроим всем евреям новый холокост. Кстати, тенниска, по всей вероятности, была бы для тебя маленькой. Давай лучше открывай коробочку с подарком!
Я держал коробочку в руке, но демонстративно положил ее на стол и удалился принимать душ.
— Ой-ей, обиделся! — весело ехидствуя, засмеялась жена. Я невольно улыбнулся. У меня под сердцем, а может, и в сердце (как говорится, вскрытие покажет) есть нервная точка, которая мгновенно реагирует на ее состояние души. Еще чувство только всплеснулось, еще и в слово не перелилось, а я откуда-то уже доподлинно знаю, чего она хочет, на чем будет настаивать и чего добиваться. Я потому и улыбнулся, что уже знал: она сожалеет, что обидела меня и вовсе не рада тому, что она права, а я — нет. (Любой неглупый человек довольно быстро осознает и признает свое заблуждение.) Она обидела своим нелепым превосходством. Теперь постарается загладить вину.
Пока принимал душ, я думал об этом и еще о том, что как хорошо, что она не видела моей ответной улыбки. Если бы видела, поняла, что как раз в тот момент, когда я улыбнулся, моя обида на нее тут же и прошла, а я не хотел, чтобы она поняла потому, что желал знать, каким именно образом она загладит ее. Скажу откровенно: знания на сей счет почему-то были и остаются для меня самыми важными, самыми животрепещущими.
Приняв душ и облачившись в халат, я вошел в комнату с самым серьезным видом. Во всем моем облике должны были преобладать строгость и неприступность, на мой взгляд, свойственные обиженному человеку. Но я слишком увлекся и, поскользнувшись, едва не упал навзничь, слава Богу, успел ухватиться за край стола.
— Ой, Господи! — искренне испугалась жена. — Давай, быстрее сюда! — она откатилась, уступая на кровати свое место.
Между прочим, я и сам испугался. А когда пришел в себя, отрицательно замахал правой рукой, дескать, нет, не нужна мне кровать и, вообще, ничего не нужно.
— А чего ты хочешь? Может, давай, заглянем в коробочку, наконец, посмотрим, — что за подарок?
— Ты, наверняка, уже посмотрела, — сказал я и, как бы обидясь заново, отвернулся.
На самом деле я отвернулся, чтобы не выдать себя непрошеной улыбкой. Она так услужливо наблюдала за мной, перехватывая каждый взгляд, что на ум пришел параграф военного устава, согласно которому при появлении командира рекомендовалось всегда держать его в поле зрения, а при отбытии из расположения части непременно провожать взглядом.
— Да что ты, как ты можешь? Не смотрела я и не буду без тебя смотреть — больно надо!
Она замолчала, ожидая, что скажу. Но я не знал, что сказать. И тогда она предложила сделку и, как показалось, довольно-таки беспроигрышную.
— Давай, наконец, посмотрим, что они преподнесли? И если ты уличишь их в двурушничестве, найдешь в их презенте неистребимую ротшильдовскую сущность, то все они — клопы, пиявки на нашем теле.
— А если я не уличу их, не найду неистребимую сущность — тогда что? — спросил я.
— Тогда мы чего-нибудь попьем из нашего бара и пойдем загорать.
Теперь она лежала на кровати наоборот, то есть ногами на подушках, а головой — ко мне. На лице у нее было выражение полного согласия с любым моим предложением.
— Это хорошо, — сказал я. — В любом случае мы с тобой в выигрыше. (Я сделал паузу.) Но это не совсем справедливо по отношению к евреям. Если я окажусь не прав и не смогу их ни в чем уличить — они тоже должны быть в каком-нибудь выигрыше.
Я стал развивать идею второго пришествия Христа, которое, согласно Новозаветному писанию, "...уже близ при дверех".
— Понимаешь, ортодоксальные евреи ждут не дождутся прихода Мессии, Спасителя, а наиболее рьяные, ультраортодоксы, верят, что только с Его приходом и возможно создать еврейское государство на Земле Израиля — Эрец-Исраэль.
Жена, глянув в потолок, закатила глаза.
— Что с них возьмешь — митьки!
— Да, митьки, но не забывай, что "митьки никого не хотят победить"! А это-то в любой религии самое главное, с чем не могут не считаться верующие.
Я упрекнул жену, что она ничего не знает об Израиле. Зря упрекнул. Из-за препирательств, которых сам был причиной, мы едва не поссорились. Благо, напомнил о подарке, — хочет она посмотреть его или нет?
— Конечно, хочу! — воскликнула жена.
— Тогда... если сейчас я не увижу в подарке никакого подвоха и никакого скрытого намека... то немедленно постараюсь позабыть и о тенниске, и о рассуждениях вокруг нее. Постараюсь не быть занудой. (Здесь жена воскликнула: "О-о!") Постараюсь не возникать и не делать из мухи слона.
— Ну, давай, давай открывай! — нетерпеливо подтолкнула жена и, почувствовав, что ее нетерпение неуместно, тут же подсластила пилюлю: — Ну, если эти "ротшильды" и после такой замечательной речи останутся пиявками, — тогда уже и не знаю!..
Я взял увесистую коробочку и стал открывать над кроватью.
(Увы, любая ее лесть не вызывает у меня раздражения.) Металлически звякнув, на постель упали какие-то кольца и перстни с темно-синими сапфирами. Впрочем, кольца и перстни, тем более с сапфирами, были ни при чем. На постели лежала оригинальная двусторонняя подвеска из трех симметрично овальных значков и трех стекляшек, наподобие рыбьих глаз. (Вправленные в гладкие обжимные закрепки, они напоминали недремлющие глаза Аргуса.)
В верхней части изделия имелось колечко для дюбеля, а в нижней — широкое и плоское кольцо с подвешенной к нему темно-синей вставкой — хамсой. Согласитесь, принимать такой подарок на Новое тысячелетие — весьма и весьма приятно. И естественно, я выпустил из виду, что мне надлежит рассматривать его еще как некий символ, уличающий евреев во всех смертных грехах. Увы, я рассматривал оберег всего лишь как оригинальное ювелирное изделие.
— Смотри ты, — сказала жена. — На каждом значке — слово. На одной стороне — на иврите, а другой — на английском. И еще, на окрайках и на кольце — орнамент, наподобие тончайшей вязи из лилий.
— Наверное, ручная работа! Интересно, что за смысл в словах?
— Ты думаешь, что подвох спрятан в словах? — спросила жена.
— Ничего я не думаю — просто интересно! — мне стало обидно — родная жена, а такие вопросы... Послушал бы кто-нибудь посторонний, решил бы, что я — маньяк.
— На хамсе написано: "Дан" Эйлат.
— Это понятно, а вот на значках сверху вниз: luck, health и success, что они обозначают, бог весть? И вроде слова все знакомы (наверняка, в школе проходили), но — не помню.
— Ничем не могу помочь, мой немецкий хуже твоего английского.
Жена держала подвеску за верхнее колечко. Развлекаясь, она медленно поворачивала ее к зеркалу — ловила отраженный свет. Падая под определенным углом, он вдруг зажигал стекляшки, они вспыхивали и на мгновение из них, как из самых настоящих сапфиров, выплескивалось холодное синее пламя.
Не знаю, зачем, но я заглянул в пустую коробочку и на дне увидел карточку, очень похожую на визитную. Но это была не карточка, на ней сияли слова, что и на значках. И не только на иврите и английском, но еще и на русском. Это были слова-пожелания: счастья, здоровья, успехов! Когда я прочел их жене — она спросила:
— Так все-таки кто в выигрыше?
— Известно кто. Митьки! Жена искренне огорчилась.
— Из чего следует, что загорать мы не пойдем?
— Почему? Пойдем, ведь "митьки никого не хотят победить".
Глава 9.
Первого января двухтысячного года мы загорали потому, что так захотелось моей жене и еще потому, что в субботу, притом первую субботу Нового тысячелетия, все учреждения были закрыты — шабат.
Мы прошли мимо наших (отеля "Дан") открытых бассейнов (весь внутренний двор был занят отдыхающими) и по довольно крутой каменной лестнице спустились на тротуар, бегущий под навесными крышами уличных кафе и ресторанов, магазинчиков и супермаркетов. (Мы уже гуляли по этому тротуару и даже в одном из филиалов какого-то банка обменяли доллары США на местные шекели, 1 : 4. В отеле меняли по курсу 1 : 3,9, но это так — к сведению.)
Мы пересекли тротуар, неширокую асфальтовую дорогу и сразу очутились в пальмовой роще на светло-зеленом газоне.
Странное чувство я испытал. Мы стояли на газоне, как бы утыканном телеграфными столбами. Точнее, гигантскими початками кукурузы с вылущенными зернами. Это было так неправдоподобно — ни веточки, ни кустика. Моему пониманию "рощи" абсолютно не соответствовало содержание того, что нас окружало. Я чувствовал себя лилипутом, не мог отделаться от ощущения, что вокруг нас не живые дерева, а декорация.
— Смотри, — сказала жена, указывая туфлей на газон. Я подумал: какая-нибудь ящерица или змея. Это были серовато-красные с частыми дырочками оросительные шланги. Они покрывали газон, как покрывают страницу параллельные линии в ученической тетрадке. Единственное отличие — они сливались с землей и под травой были почти неразличимы. Только вокруг пальм шланги проступали более явственно и напоминали геометрически ровные концентрические круги.
— Боже, сколько трудов?.. Этой же финиковой роще конца не видно!
— Наверное, и в Крыму можно таким способом выращивать и поддерживать газон, — сказала задумчиво жена.
Из любопытства к ирригации газона мы немного прогулялись в сторону (скажем так) от Иорданской границы. Тем, кто видел документальный фильм "О, Израиль!", скажу, что известные стихи Михалкова в Эйлате звучат так: "А из нашего окна Иордания видна. А из вашего окошка — лишь Египета немножко...".
Возле водовода, подпитывающего шланги, но сейчас перекрытого, нас заинтересовала пальма (единственная в своем роде), увитая растением с тонкими ползущими стеблями. Растение было буквально осыпано лилово-синими цветами. Когда в рощу забегал ветерок, топорщащиеся листочки начинали трепетать, и тогда создавалась иллюзия, что вокруг ствола вьется рой разноцветных бабочек.
Я сорвал несколько цветочков и, завернув в носовой платочек, спрятал в карман. Потом мы пошли к морю. Прошли метров пятьдесят-шестьдесят — газон закончился.
Зато, шествуя по песку, испытали истинное блаженство. Нагретый по-летнему, он шелестяще шуршал и сквозил между пальцами.
Роща стала гуще, но стволы пальм тоньше. Теперь они казались обнаженными телами загорающих, тем более что в просветах уже синело, взблескивало море. Внезапная мысль, что на дворе январь, а вокруг лето, и мы идем купаться, — приводила в восторг.
Когда вышли из рощи, — глазам предстал своеобразный палаточный городок, раскинувшийся у самой воды. Полосатые матерчатые грибы; лежаки, обтянутые мягкой тканью; переносные перегородки и — загорающие, большие и маленькие: лежащие и бегающие, плавающие и снующие, сидящие и прыгающие — все это вместе (красочный реквизит и люди) напоминало место стоянки некоего передвижного цирка — шапито.
Мы облюбовали два лежака с раздвигающейся переносной перегородкой и, раздевшись, водрузили на них одежду. (Таким способом хотели уберечь занятые места.) Напрасно — места оберегал молодой человек с сумкой через плечо. Не знаю, каким образом он вычислил, что мы русские, но, пробираясь к нам между лежаками и перегородками, крикнул, чтобы подождали...
Мы подождали.
Он сообщил, что мы должны уплатить двадцать шекелей.
Я уплатил. Тогда он сказал, что за наш фотоаппарат, и кошельки, и вообще за всю одежду никто не несет никакой ответственности, — их фирма берет деньги только за лежаки (прокат).
Трудно объяснить почему, но он так быстро наскучил нам, что мы даже немного отодвинулись от него, чтобы подчеркнуть: разговор окончен. Тем не менее он продолжал стоять на фоне бело-голубого гриба, словно часовой на фоне знамени. Чувствовалось, он ждет не дождется вопроса. (Есть такие необязательные вопросы, на которые загодя заготовлены ответы.)
— Иди, купайся, — шепнул я жене. — А я позагораю, пока уберется этот сборщик податей.
Она ушла, а сборщик податей, очевидно, устав ждать, спросил, из какого мы отеля, и тут же предположил: «Из "Дана"». Его проницательность неприятно покоробила. И хотя я понимал, что он не совершил ничего предосудительного, соврал, что мы не из "Дана", мы — из соседнего отеля.
— Знаете, такой красивейший здесь, в восточном стиле, с мосточками, башенками и арочками?
— О-о! — воскликнул сборщик. — Так вы — наш человек!
— Думаю, что, скорее всего, не я, а вы — наш человек, — сказал с нажимом и той долей презрения, которая невольно возникает в отношении к субъекту, вызвавшему в вас, мягко говоря, не очень хорошего человека. (Что-то наподобие Джинна, который может быть хорошим или плохим в зависимости от того, кто и когда извлек его из сосуда.)
Я предполагал, что на мое презрение собеседник отреагирует должным образом. Ничуть не бывало. Мое презрение, кажется, возвысило меня в его глазах.
— Хорошо, — сказал он. — Я понаблюдаю за вашей одеждой.
— В этом нет необходимости, — не скрывая неудовольствия, сказал я.
— Ай эм сори, экскьюз ми! — ответил он и больше к нам не подходил.
Глава 10.
Мы купались в Эйлатском заливе три дня подряд. Разумеется, с перерывами на обед и пешими (куда глаза глядят) прогулками по городу. Анна-гид появилась второго января под вечер. Выглядела цветущей, но на комплимент — скромно ответила, что еще недомогает, а то бы — конечно! На наш вопрос об однодневной визе в Египет для посещения монастыря Святой Екатерины (Санта Катарина) ответила, как отрезала: виза будет, она держит ситуацию под контролем.
Да-да, вот такой полицейский ответ. Но не будем забывать, что Земля Израиля (Эрец-Исраэль) — это не только Святая Земля, но и земля милитаризованного государства. Но есть ли в этом что-то предосудительное? Наверное... Хотя с изгнанием иудеев в Вавилон (разрушение Иерусалима и Первого Храма — пятьсот восемьдесят шестого года до н.э.), было еще и второе разрушение (семидесятого года н.э.). Да-да, все это было, как было Византийское владычество и Арабское. Как было правление крестоносцев и мамлюков. И длившееся до тысяча девятьсот семнадцатого года четырехсотлетнее Османское правление. Да-да, все это было, но не поросло быльем, потому что еврей, где бы он ни был: в Европе или Америке, в Азии или Африке — всюду ставил превыше всего свою духовную нерасторжимость с Эрец-Исраэлем.
"Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет десница моя; пусть прилипнет язык к гортани моей, если я не буду помнить тебя, если не вознесу Иерусалим во главу веселия моего". (У иудеев: "Книга Хвалений". У нас, православных: "Псалтирь".)
И еще... государство Израиль было провозглашено четырнадцатого мая тысяча девятьсот сорок восьмого года, а пятнадцатого, на следующий день, Египет, Иордания, Сирия, Ливан и Ирак вторглись в страну, вынуждая евреев защищать свою независимость, которую они вот только что обрели.
Я не хочу выступать в роли адвоката, а тем более судьи какой-либо из конфликтующих сторон. Я только хочу понять, почему Израиль — милитаризованная страна, почему наши люди (сегодня каждый третий солдат армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) — выходец из стран бывшего СССР) взялись за оружие. А ведь в СССР пропаганда захватнических войн была строго-настрого запрещена. Неужто враз все перековались, что-то тут не так! Во всяком случае, когда я читаю в газетах, слышу по радио и вижу по телевизору зверства иорданца Хоттаба и его молодчиков, — я испытываю чувство бессильного гнева ко всем на свете террористам, которое вдруг проливается теплом по отношению к нашим бывшим согражданам, уехавшим в Израиль и взявшимся за оружие.
Но вернемся к Анне. Ее утверждение, что виза будет, что она держит ситуацию под контролем, настолько нас обнадежило, что мы отказались от запланированного плавания на катере. Решили — весь день, третьего января, отдыхать, набираться сил. Гора Синай даже по географическим понятиям весьма впечатляюща. Высота — почти две с половиной тысячи метров. Кроме того, вся она из розового гранита, в котором высечено три тысячи сто ступеней и всего две небольших площадки. На одной, северной, построена церковь Преображения Господня, а на другой — мусульманская мечеть.
В скале, за церковью, паломникам указывается место, где укрывался Моисей во время чудесного видения купины, горящей и не сгорающей. Конечно, монастырь Святой Екатерины находится хотя и высоко, но значительно ниже, и все-таки мы решили отдохнуть. Ведь со дня посещения монастыря, по сути, начнется наше паломничество по святым местам и, как представлялось нам, нелегкое (по плану, составленному нами еще в Москве, пятого января утром мы должны были ехать в Иерусалим).
Чистота вод Эйлатского залива восхищает. И еще, отсутствие волн. Изредка ветерок сыпанет легкой рябью, словно горстью солнечных бликов, что придерживал в рукаве, и опять блаженная нега и умиротворение. Это рядом с берегом брызги и бултыхание, а чуть дальше недвижимое синее зеркало.
Я иду по берегу, песок мягко поскрипывает, а воды почти не слышу, какое-то отсутствующее прикосновение. Иногда я останавливаюсь в ней по щиколотки и стою, прозрачность идеальная, ступни, как ласты, кажется, видишь их через наплывы линз. Потом медленно-медленно вхожу в воду. Она все ближе, ближе, погружение почти неощутимо — почти. То есть поверхность воды, смыкающую мои ноги, а потом бедра, я ощущаю, но не более как прикосновение серебряного шнура, на котором плывет мой сон. И только когда шнур охватывает поясницу и внезапная щекотка рефлекторно проскальзывает под мышки, вдруг невольно вскрикиваю и с веселым ужасом бросаюсь в объятия вод.
Плавать в Эйлатском заливе одно удовольствие, особенно на спине. Чтобы держаться на воде, не надо никаких усилий, кажется, что кто-то поддерживает невидимой рукой. Вверху голубой купол неба, а по бокам нагромождения скалистых гор. Горы розоваты, будто подернуты остывающим пеплом.
Ловлю себя на мысли, что все же трудно воспринимать Эйлатский залив, как морской. Обыкновенное глубоководное озеро, наподобие Телецкого — в Горном Алтае. Правда, летом там берега малахитовые, а вода в самый жаркий полдень холоднее самой холодной из артезианских колодцев. Кроме того, там по кромке берега не песок, а — галька. (Бывало, выскочишь — как из проруби, подгребаешь ее под себя, подгребаешь, а она металлически позванивает и рассыпается, рассыпается, как разноцветные монеты доисторических времен.)
И все же Эйлатский залив и Телецкое озеро несравнимы, то есть, сравнимы ни с чем не сравнимой красотой. Я всегда изумляюсь, как недосягаемо велик Творец. Никогда и ни в чем Он не повторяется и уже этим предоставляет каждому из нас такую неограниченную свободу, какой без Него и не измыслить. Ведь Библейское указание: "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их" (Бытие, I, 27) подразумевает не только внешнее сходство, но и сходство с Ним человека-творца. Широко, очень широко распахнуты двери перед человеком — так широко, что уже и возгордиться можно. Можно, но не должно потому, что в словах "...по образу Божию..." припасено для всех нас великое лекарство от гордыни. Да, да — страх Божий. Конечно, нам, человекам, весьма и весьма далеко до Создателя, из-за нашей, так сказать, недалекости. Но и то уже сладостно, что ныне понимаем это и в основу основ своих возводим сбережение всего, созданного Им, в том числе и себя, человека. Потому и спасемся красотой, что она — Божия красота, более всего узнаваема нами — мы еще дети в понимании своем. Однако спасение уже началось, примеров тому, хотя и не так много, как хотелось бы, — есть, В данном конкретном случае — этот, чистейший, как горное озеро, залив. Даже не верится, что невдалеке от пляжа "Коралловый Берег" (мы — на Северном пляже), возле "Дельфинария", находится нефтяной терминал, через который поступает из Египта четверть всей нефти, потребляемой Израилем. Не знаю, как у кого, а у меня сочетание слов "нефть и море" обязательно ассоциируются с ужасными картинами гибели прибрежной флоры и фауны.
Когда подошел к жене, — она сказала, что сегодня сборщик податей был на удивление обходительным.
— Взял деньги и, словно Асисяй поблагодарив за посещение пляжа, тут же ретировался.
— Ты знаешь, что ты тут лежишь, а прямо над головой у тебя проходит трасса перелетных птиц?
— Ничего себе, — удивилась жена и тут же поинтересовалась: — К чему столь интригующая информация?
— К тому, что мы находимся в экологически чистом районе.
Я предложил съездить на "Коралловый Берег", посетить "Дельфинарий", подводную обсерваторию, аквариум. Неожиданно в наши планы вмешалась Анна-гид. Сообщила по мобильному телефону, что в двенадцать будет ждать нас в вестибюле отеля.
— Поедем на территорию заповедника "Коралловый Берег", в подводную обсерваторию и аквариум.
Отключив телефон, сказал, что на ловца и зверь бежит.
— На ловцов, — поправила жена.
Мы решили, не откладывая, сворачиваться, чтобы, не торопясь, привести себя в порядок, перекусить и, может быть, почитать русские газеты, которые купили в соседнем отеле.
Глава 11.
Соседний отель — это что-то невероятное: башенки, мосточки, арки и так далее, и так далее... В день приезда, точнее, вечером мы с женой вышли из гостиницы и решили прогуляться в сторону этих светящихся башенок и мосточков. Нас соблазнила сияющая итальянскими окнами галерея, которая высоко вверху (где-то на уровне двенадцатого этажа), точно ажурный мост, была перекинута через автодорогу к другой высотной башне, причем так, что в комплексе с основным зданием они составляли как бы уже и не отель "Herods" (название потом прочли), а роскошный дворец с не менее роскошной триумфальной аркой. В честь какой победы она была воздвигнута — бог весть! Название "Herods" было пустым звуком, и ничего нам не разъясняло. С обеих сторон автодороги, перед галереей и за нею, ровно по ранжиру, стояли высокие, очень высокие металлические шесты с круглыми, как бы пронзенными и насаженными на концы маковками темно-синего цвета. Если бы не бело-голубые транспаранты со звездой Давида, натянутые на них (от маковок и почти до земли), а может, благодаря им, металлические шесты воспринимались как пики конников, застывших на царском смотру. Вблизи галерея была менее привлекательной. Возможно оттого, что слишком высоко приходилось запрокидывать голову. Но самое удивительное, за галереей, почти сразу, обрывалось электрическое освещение. Мы прошли менее минуты и оказались на высоком каменном мосту. Темень — хоть глаза коли! Жена стала уговаривать вернуться в отель, а потом вдруг спросила:
— Что там за огни, в конце моста?
У обочины шевельнулась тень, и мужской голос ответил, что это КПП (контрольно-пропускной пункт) наших пограничников.
Ответ был настолько "русским" и прозвучал настолько обыденно, что мы сразу даже не сообразили, что находимся в Израиле. (Где-нибудь — под Калининградом, в каком-нибудь — Багратионовске.) Но это лишь на секунду (от перил отделилась еще одна тень — маленькая, и детский голос, заговоривший на английском, вернул нас в Эйлат.)
Мы потихоньку приблизились. Теперь силуэты мужчины и мальчика были видны достаточно отчетливо — они прямо с моста удили рыбу.
— Клюет? — спросил я.
— Клюет, — ответил мальчик, и они с мужчиной засмеялись.
— Отец? — поинтересовался я.
— Дядья, — сказал мальчик с явным акцентом.
Чуть подальше обозначились еще силуэты.
— И это все рыбаки?! Здесь разрешается ловить?
— Ночью — все разрешается, — сказал "дядья" и, очевидно, перевел мои вопросы и свой ответ — на английский. (Во всяком случае, они опять засмеялись.)
Я ухмыльнулся. Мне вспомнился наш Зеленоградский пруд в десятом микрорайоне, в котором рыбы, в общем-то, нет, но рыбаков в любую погоду — хоть пруд пруди. Особенно зимой — насверлят лунок и сидят, сидят с утра до вечера, а потом "не солоно хлебавши" идут домой, идут довольные, с чувством выполненного долга. Охота, рыбалка всякого рода коллекционирование — это наркотики. И, как всякие наркотики, в больших дозах опасны, а в малых — весьма и весьма полезны (в этом их существенное отличие от наркотиков запрещенных). Впрочем, любую наркоманию я приемлю лишь в одной дозе: "дозе, врачующей от наркомании".
Мы прошли к центру моста или того, что считали мостом — рыбаков стало заметно больше. Я сказал, что они напоминают рыбаков с нашего пруда. Жена засмеялась. Мы постояли у каменного ограждения — в воде плавали редкие зыбкие огоньки, и ни ветерка, ни дуновения. На юго-востоке, в стороне от огней Акабы, высветились вершины гор (вставала, а может, садилась луна). Я прислушался и, услышав плеск со стороны бухты, поймал себя на мысли, что жду — сейчас ударит лягушиный хор и ночь зазвенит, как звенят ночи у нас на селе летом. А ведь конец декабря — зима!
Я предложил пересечь мост, перейти на другую сторону: мне показалось, что у противоположных перил более пустынно. Оказалось, что рыбаков здесь еще больше.
— Это не рыбаки, — сказала жена. — Это отдыхающие. Тут только обратил внимание, что отдыхающие в основном разбиты на пары, и если свешиваются с ограждения, — обязательно приобнявшись. Мы тоже свесились.
— Тише, не возражай, — сказал я вполголоса. — Может, подфартит, и во тьме и нас примут за влюбленных. Да-да, я слышал, что сейчас в моде шестидесятники, то есть те, кому под шестьдесят.
Следующее знакомство с соседним отелем произошло второго января. Осваивая гостиничный номер, я нашел в столе открытки Эйлата и почтовые конверты. Без марок, конечно, но самая возможность написать письма родным и близким, подать весточку со Святой Земли — дорогого стоят. Кроме того, всякий, кто много времени проводит за письменным столом, подтвердит: повседневное выполнение распорядка дня, в конце концов, становится физической потребностью, и даже способом жизни. В этом смысле весьма показателен образ профессора Плешнера, созданный актером Евгением Евстигнеевым в телефильме "Семнадцать мгновений весны".
В общем, выдернутый из-за стола поездкой в Израиль, я, как и прежде, вставал в семь утра и поначалу просто не знал, куда себя деть. И тут — конверты и открытки! Я воспрянул. И хотя далеко не поклонник эпистолярного жанра — второго утром уже вовсю писал письма. Писал азартно, с вдохновением, но не только потому, что нашел предмет своего приложения. Я вдохновлялся розово-лилово-синими цветами, точнее, цветочками, которые нарвал в пальмовой роще.
Первое письмо написал в Барнаул, Ивану Кудинову, автору романа "Каракорум", рассказывающему о талантливом алтайце, ученике Шишкина, живописце Ойротии Чорос-Гуркине.
К сожалению, в Российском энциклопедическом словаре (научное издательство "Большая Российская энциклопедия", 2000) не нашлось места для великого художника алтайского народа. В словарь введено много новых имен по критерию: раз на слуху, стало быть, достоин — включаем. А уж по какому критерию предоставлялось количество строк в статье-справке — и вовсе непонятно. Я полон самого искреннего уважения к заслугам Михаила Шолохова и Василия Шукшина, но мне невдомек, почему первому, лауреату Нобелевской премии, уделено семнадцать строк, а второму — двадцать одна. А Владимиру Высоцкому — аж двадцать четыре. Помнится, открыл словарь наугад — Александр Ширвиндт. Блистательный актер — пятнадцать строк. Всего на две строки меньше, чем у Нобелевского лауреата — неплохо. Но не спешите радоваться, здесь же на развороте — шимпанзе, у нее тоже семнадцать строк.
Досадуя, захлопнул книгу: в сравнении с энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона это и не словарь даже, а какой-то куцый дайджест. Потом опять открыл, заинтересовался списком редакторов, но вместо него натолкнулся на грозное предупреждение: "Воспроизведение всей книги или ее части на любых видах носителей запрещается без письменного разрешения издательства". Ну, что тут скажешь, — размечтались! Хотя это не дело, что в России до сих пор нет Закона, защищающего интеллектуальную собственность, и каждое издание просто вынуждено такими вот угрозами оберегать права на свои произведения.
Но вернемся к цветам. Они вдохновляли потому, что в них было что-то от багульника (на Алтае — маральника) — кустов голого, кажется, мертвого, сухого вереска, который за ночь в воде вдруг оживал и распускался нежным, как дыхание, пламенем лиловых цветов.
В бытность рыбаком океанического лова как-то вернулся из морей, прилетел в Барнаул и давай одаривать друзей и знакомых веточками багульника. Март, всюду сугробы снега, а в руках и не веточки даже — живой неопалимый огонь весны. Очень многих я одарил, а вот Ивану Павловичу Кудинову не досталось, не встретился он. А обиду потом высказал:
— Разве ты не знаешь, что цветы багульника — лучшие мои цветы?! Я ведь служил на Дальнем Востоке, в Морфлоте!
Что он служил в Морфлоте, я знал, тем не менее обида показалась вздорной. Я не обязан знать, у кого и для кого какие цветы лучшие.
Но вот прошло много лет, я кладу в конверт с письмом несколько лиловых цветочков и, опережая время, представляю, как обрадуется этим цветам Иван Павлович. Зима, Крещенские морозы, снег жестко, почти металлически поскрипывает — Сибирь. И вдруг все отступает — письмо со Святой Земли! Вскрывается конверт, вынимается письмо. И прямо на рукопись выпадают лиловые лепестки цветов, так похожие на цветы багульника! Нет — здесь не просто обрадуешься, здесь придешь в восторг. Я сам был бы на седьмом небе, если бы получил подобное письмо. Да, это очень важно знать, что может принести человеку радость, а нечаянную — вдвойне. Теперь понимаю, как необъяснимо глубоко ранит обида, когда лучшие твои цветы дарятся не тебе.
Именно поэтому писал с вдохновением, и именно поэтому во все конверты клал лепестки цветов Бугенвилии или, как ее еще здесь называют — Виолеттой Египетской. Желая как можно скорее отправить письма, предложил жене, по пути на пляж, заглянуть в наш книжный киоск — наклеить марки.
Мы спустились в вестибюль, но на каббале нам сказали, что киоскерша будет не скоро, а без марок они не берут письма, почта возвращает назад. Там же нам посоветовали сходить в соседний отель "Herods", в котором тоже есть книжный киоск и продаются любые почтовые марки.
Отель "Herods" поразил нас пустынностью и величием. Огромные колонны, теряющиеся где-то в потолковом поднебесье, и совсем маленькие люди справа за стойкой. Колонны, мрамор, мозаика — во всем классический стиль какого-то древнего мира, в котором даже пространство воздуха кажется позаимствованным из библейских времен. Такого с нами еще не было, впервые враз почувствовали, что на русском здесь не говорят — чужая территория. А до этого — мы были всюду как дома, как в малоизученной нами части России, может быть, Северной Осетии или Дагестане. Во всяком случае, разговаривая по мобильнику с домом, на вопросы знакомых: "Ну, как вы там?", — я неизменно отвечал:
— Отлично! Мы с Галой здесь как бы евреи, а они вокруг — как бы русские.
В "Herods" — нет. Все другое, отстраненное, мне показалось, что даже время в этом отеле идет не как обычно, а вспять.
Мы подошли к стойке.
— Здравствуйте, нам нужны марки, чтобы отправить письма.
Понимая, что речь ничего не разъясняет, показал конверты.
Молодые люди за стойкой переглянулись, и один из них (весьма спортивного телосложения) сказал по-английски, что они не говорят по-русски, и жестом указал — направо, за колонну.
За колонной обнаружился ряд высоких итальянских окон — галерея с выходом во двор. Я увидел широкую, как река, каменную лестницу, а поверх белых площадок, ступенчато уходящих вверх, темно-зеленые шапки пальм. Невольно подумалось о висячих садах Семирамиды.
Под впечатлением увиденного направился к лестнице, но жена остановила.
— Вот — газетный киоск.
Собственно, это был не киоск, а довольно просторный магазинчик периодики и всевозможных канцелярских принадлежностей.
В проеме магазинчика стоял хозяин — сухощавый, подтянутый, лет сорока. Во всем его облике было что-то такое, что роднило с молодыми людьми за стойкой. Я даже предположил, что они торгуют в магазинчике по очереди.
— Здравствуйте, заходите, заходите! — на очень неуверенном русском пригласил он.
Я и ему сказал о марках и показал конверты.
— Руссия, русских? — спросил он и, достав штемпель, не дожидаясь ответа, стал штемпелевать конверты.
У нас сложилось впечатление, что он понимает нашу речь. Впрочем, впечатление оказалось обманчивым. Уже в следующую минуту, когда спросил, кому отдать конверты, чтобы их доставили на почту, он виновато заулыбался, развел руками, мол, ничего не понимает. Потом, спохватившись, набрал номер по сотовому телефону.
Оказалось, что его жена, Татьяна, — русская, приехала из России в тысяча девятьсот девяносто третьем году. У них двое детей — мальчики. Плохо говорят даже на иврите — маленькие.
Хозяин помог нам. Мы взяли целую кипу русских газет, причем некоторые достались бесплатно, как еженедельные приложения.
Провожая, хозяин подвел к молодым людям за стойкой и, улыбаясь, похлопал меня по плечу.
— Наш человек!
"Наш человек", — сказал на чистом русском, чем вновь удивил нас.
— Наш, наш, — удовлетворенно повторил один из молодых людей, беря проштемпелеванные конверты.
В ответ, весьма сдержанно поблагодарив, мы удалились. (Благодаря отелю "Herods", мы уже были знакомы с одним "нашим человеком".)
Глава 12.
Помнится легкий "летний" день. Солнце. Мягкий ветерок со стороны залива и устремленно напряженная Анна за рулем своей новенькой Мазды.
"Коралловый Берег" — это территория заповедника. Мы едем в "Коралловый мир" — это подводная обсерватория и аквариум.
Как хорошо — красота названий как бы переливается в лазурь залива... И вдруг все меркнет: Анна походя сообщает, что ей не удалось получить разовую визу в Египет — посещение обители "Санта Катарина" придется отложить до следующего раза. Но когда случится этот "следующий раз"?! Да наверное, никогда!..
Мы с женой расстроено молчим, но Анна не понимает нашего состояния. Предлагает (раз такое дело) прогулку на яхте с прозрачным дном.
Я отменяю яхту. Чем соблазнительней план времяпровождения, тем более он неприемлем. Для нас Эйлат был важен не как центр туризма, не как город-курорт, а как удобная перевалочная база для посещения горы Синай. И вот...
В разговор вмешалась жена, сказала, что завтра, в первой половине дня, мы наметили посетить аэродинамическую трубу. Ничего мы не намечали. Таким способом она решила сгладить бестактность моей досады. Ей это удалось. День посветлел. И я, подыгрывая, как бы только что вспомнил, что назавтра во второй половине дня мы планировали полеты на парашюте.
— Ты что, забыла про полеты над акваторией залива?
— Нет, я прекрасно все помню, — ответила жена, и мы многозначительно переглянулись.
— Ну, это легко устроит вам май фрэнд, — пообещала Анна.
Мне нравится посещать аквариумы, особенно тропических стран. Флора и фауна настолько живописны, что, кажется, присутствуешь на каком-то сюрреалистическом празднике. Эти разноцветные кораллы, эти всевозможных оттенков кружева: ярко-красные, черные, белые, золотистые... А рыбы и рыбки — маски бала-маскарада, они проплывали и останавливались с такой грацией, словно участницы конкурса.
Бытует мнение, что не все цвета между собою гармонируют. Например, ярко-красный и голубой. Ничего подобного. На фоне ярко-красного коралла с ветвистыми голубыми прожилками — рыба, ярко-красная и словно обсыпанная голубым конфетти. Я сразу и не приметил ее, потому что даже глаза воспринимались голубенькими кружочками. А мордашка — полнейшее равнодушие к окружающему и замкнутость на самой себе. (Один из литературных героев Андрея Платонова, очевидно, увидел подобную особь, когда пришел к заключению, что рыбы молчат потому, что уже все знают.) А вот темно-синее создание из плавников-кружев — глаза почти человечьи, красная пасть приоткрыта, а нижняя губа лениво задрана кверху, господи! — сплошное пренебрежение всем, что ни есть вокруг. И здесь же из коралловых зарослей выглядывает поистине золотая рыбка — рифленые полосы по бокам, носик, как у ежика, а на глазках черные пигментные пятна, отчего взгляд кажется удивленно наивным, словно у олененка.
Это замечательно — иметь электронного гида: висит себе на плече, а от него — наушники, набрал нужный номер, нажал кнопку и слушай, что за туристический маршрут или что за рыба перед тобой. (Анна снабдила нас нужными атласами подводной живности и еще предупредила, что на все про все у нас три часа — в пятнадцать тридцать нас ждут на фабрике по обработке эйлата — непрозрачного, но красивейшего зелено-синего камня.)
— Знаешь, давай поищем в атласе создание с человечьими глазами, — предложила жена. — Глядя на него, как-то легко верится, что в прошлой жизни мы вполне могли быть рыбами.
Нам казалось, что под номером сто тридцать восемь нас ждет откровение, увы — желтохвост.
— А вот эти, с поперечными черными полосами и голубоватыми продольными тенями, как бы присыпанными золотой пыльцой? Такое впечатление, что эти особи прозрачно воздушны.
И опять разочарование — пестряки.
— Лучше не знать названий, большинство ученых страшные примитивы.
— Хорошо, в последний раз — вот эту серебристую, с продольными полосками по бокам и красными плавниками. Смотри, какие острые плавники и хвост! Причем хвост как бы обляпан красными кляксами.
Семьсот тридцать три — "хирург". Жена всплеснула руками:
— Нет, они не примитивы, они натуралисты. В поле зрения появился скат: мордочка, как у летучей мыши, а над веерным хвостом длинный отросток позвоночника, переходящий как бы в стреловидный электрод. Скат взмахивал плавниками-крыльями и один в один был схож с пернатым хищником. Кстати, окраска тоже соответствовала: снизу — белая, а сверху — темная, с белыми горошинами.
— Доведись мне — я бы назвал его "крапчатым ястребом".
— Поздравляю, почти угадал, лот под номером триста один — "крапчатый орел", — сказала жена.
— Наверное, в естественных условиях они большие? Некоторое время мы не заглядывали в атлас. Разноцветье кораллов, рассеивающийся солнечный свет, голубовато-серебряные пузырьки воздуха и стайки фантастических рыбок, проплывающих рядом, — все это создавало иллюзию нашего присутствия в сказочном царстве.
— О, господи — не рыба, а какое-то шевелящееся дыхание. Напротив нас, в россыпях солнечного света, остановился изумрудный прямоугольный мешочек с частыми золотистыми полосками по диагонали. Возле мордашки, тоже изумрудной, объемные плавнички, словно ворот испанского герцога эпохи Ренессанса. Хвост воистину золотой, он выглядывает из оборок туловища, которое действительно постоянно колеблется, словно дышит.
Электронный гид сообщил, что перед нами ангельская рыба-император (взрослая особь).
— Мне пришла в голову великолепная идея, — сказал я. — И если идеи покупаются, то мою оторвут с руками и ногами. Хочу предложить всем кутюрье Земного шара почаще посещать аквариумы тропических стран — вот где богатство форм и красок для их оригинальных коллекций!
Дощатый пирс ведет нас из аквариума в бассейн, в котором плавают морские черепахи, акулы, электрические скаты. Все здесь увеличенных размеров, все слишком серьезно, чтобы предаваться фантазиям. И только ветерок и плеск воды в тени зеленых пальм навевают пленительную негу. Жизнь прекрасна!
— Если бы я была еврейкой, — я бы хотела жить здесь, в Эйлате.
— А я — если бы был Ихтиандром.
— Однако ни то, ни другое - невозможно, а потому пойдем в обсерваторию.
— Давай хотя бы сфотографируемся здесь?
— При условии, что украшу фотографию надписью: "Когда я была еврейкой, а мой родной муж - Ихтиандром!"
Мы сфотографировались. Удивительно — январь, а в бетонной бочке вокруг ствола пальмы растут фиалки. И всюду цветы, цветы… (Евгений Михайлович Трегуб, бизнесмен из Антверпена, говорил, что большинство голландских цветов доставляется из Израиля — таковы законы свободного рынка.)
Дощатый пирс выводит нас — к основному, который, в отличие от нашего, не кружит по бассейнам, а уходит прямо в открытое море. Да-да, там, в открытом море, белеет маякообразное строение, кажется, что оно парит над водой. Впрочем, нет, не кажется: надводная часть строения действительно парит, потому что под воду уходит только тонкий ствол конструкции — ножка своеобразного двухъярусного гриба, увенчанного бело-голубым флагом.
Мы идем по пирсу, не торопясь. Теперь все наше внимание приковано к желтой подводной лодке — "Жаклин".
— Интересно, она названа в честь вдовы американского президента Джона Фицджеральда Кеннеди или жены богатейшего греческого судовладельца Онассиса Аристотеля Сократеса?
— Думаю, евреи потому и евреи, что учли и то, и другое.
Верно сказано — всему свое время и место. Я осознаю это даже с избытком, но что-то ударило под сердце и в мгновение ощутил штандарты солнечных лучей сквозь ветви сосен, стихи на стенах — Высоцкий, Вознесенский, Любимов… Вспомнилось двустишие без подписи: "Надо очень чисто мыться / Даже если ты Капица".
Андрей Петрович — знаменитый географ, член-корреспондент, решил показать мне достопримечательности Николиной горы. Прежде всего — излучина Москвы-реки. Мы находимся на левом берегу, в тени корабельных сосен, а правый — в сиянии солнца. Река парит, плеск воды — рыба играет, круги завораживают — хорошо!
Андрей Петрович приглашает пройтись, посмотреть строящуюся дачу дочери Алексея Николаевича Косыгина (тогда председателя Совмина СССР).
Дача, с арками и колоннами, облицована декоративным кирпичом. Я поднимаюсь на высокое полированное крыльцо и заглядываю внутрь — роскошные бра, люстры, камин. Не дача, а Дворец культуры, причем городской, построенный с размахом. Дача еще не сдана — во дворе строительная техника: автокраны, самосвалы, бульдозеры… Чувствуется, задействовано серьезное СУ.
— Ну, как? — спросил Андрей Петрович (он не заходил во двор).
— Потрясен, я и не предполагал, что есть такие дачи! Скорее это — Дворец культуры!
— Вот именно, — усмехнулся Андрей Петрович и посмотрел на часы. (Евгения Александровна, его жена, ждала нас к завтраку через пятнадцать минут.) — Пожалуй, успеем взглянуть еще на одну дачу, настоящую и тоже построенную для дочери.
Мы опять спустились к реке, минули дачу Андрея Петровича, которая, в отличие от косыгинской, не нарушала ландшафта, терялась в бору. Потом поднялись по тропинке на взгорок и, как по команде, остановились.
Перед нами на вскопанном поле стоял большой, высокий, но одноэтажный терем, точнее даже — изба. Простые наличники, фронтоны, окна — все отливало золотом свежей древесины и только. Никаких излишеств. Вскопанное поле вместе с теремом было огорожено железной сеткой — ни дерева, ни кустика, ни цветочка. И все же пространство пустыря не воспринималось пустырем. Терем, что называется, держал пространство, более того, подсказывал: где надо посадить деревья, а где разбить цветочные клумбы.
— Ну, как? — опять спросил Андрей Петрович.
— Нет слов, но намного скромнее, — искренне сказал я. — Однако, благодаря терему, и пустырь воспринимается как площадка для творчества.
— Так вот — эту дачу или избу срубили пять вятских мужичков за три месяца. Одними топориками, без единого гвоздя.
Я невольно по-новому посмотрел на терем.
— Интересно, чья же это дача?
— Дочери греческого миллиардера Онассиса Аристотеля Сократеса. Его дочь вышла замуж за советского инженера — бывает такой "бзык" у дочек сверхбогатых пап. Но дача — действительно дача, а подход к строительству?! Два отца — два молодца, а начнешь сравнивать — все должно было бы быть с точностью до наоборот, но, — увы... Вот вам и Онассис, один из богатейших людей мира...
Взявшись за перила, жена остановила меня.
— Давай-давай, возвращайся... Всему свое время и место.
— Да, конечно...
Но мое согласие она оставляет без внимания, ей любопытно — где я был, когда отсутствовал?
— Смотрел на дачу Онассиса, которую он построил для своей дочери.
— Ну и?..
— Уверен, что подводная лодка названа "Жаклин" в честь жены миллиардера Онассиса, и это стоит того, чтобы побывать на лодке.
Глава 13.
Обсерватория не произвела большого впечатления. Умом понимал и уникальность сооружения, и сложность, и оригинальность инженерных решений, а сердце не отзывалось...
Да — мы практически в открытом море. Да — аквалангисты, разбрасывая корм, спускаются достаточно глубоко. Да — в отличие от аквариума мы видим обитателей подводного царства "живьем", то есть в естественных условиях. Да — этот крапчатый скат действительно огромен и по размерам не уступит орлу. Да — эти акулы, наверное, представляют серьезную опасность для аквалангистов, — не случайно же они вооружены подводными ружьями?! И подводные таблички (указатели опасных зон), очевидно, не случайны. Да-да — все не случайно. Но, может быть, поэтому сердце и не отозвалось? Не знаю... Смотровой зал, расположенный на двенадцатиметровой глубине, показался мне не только мрачным, но и каким-то потусторонним. Во все время экскурсии меня не покидало чувство, что не мы наблюдаем подводных обитателей, а они — нас.
— Предлагаю подняться наверх и — на подводную лодку. (По-моему, и жена не восприняла уникальности обсерватории, во всяком случае, сказала, что никогда не испытывала такого захватывающего душевного подъема, как при подъеме из глубин подводного царства.)
Наверху нам сообщили, что все билеты проданы: ждите, дополнительная продажа свободных мест будет произведена за десять минут до погружения. Еще нас предупредили (как бы невзначай), что если мы оплатим услуги фотографа (двадцать шекелей за снимок) у нас будет больше шансов попасть на лодку. Мы согласились на услуги. И правильно сделали, потому что нас с женой записали в какой-то толстый журнал и даже позволили погулять, в то время как другие претенденты должны были оберегать свои места в очереди. (Не знаю, как в других городах Израиля, а в Эйлате туристов разве что только не боготворят.)
Круговая панорама надводной части обсерватории превосходна — безбрежность лазури и живописность ярко окрашенных парашютов, взмывающих над быстроходными катерами, напоминали о другой, более увлекательной жизни. Кстати, круговая панорама витрины словно соревновалась с ней, перетягивала внимание. Раковины и кораллы отделаны серебром и платиной. Жемчужные нити, ожерелья и колье — все удерживало взгляд. Увлекшись рассматриванием поделок, мы даже немного растерялись, услышав свои фамилии по радиотрансляции, — неужели уже прошло полчаса? Так и есть — без десяти четырнадцать.
О, эти билеты… чужая речь! О, эти бумажки, квитанции и т.д., и т.п.! Единственная радость — завистливые взгляды претендентов. Кажется, они бы не отказались, а почли за честь быть на нашем месте. Наконец, все улажено. Мы бежим по деревянному пирсу и пробегаем переход к причалу. Нас окликают, мы ничего не можем понять… Ах, вот в чем дело?! Перила основного пирса разъемные, легко убираются, нам всего-то и нужно — перейти, а точнее, спуститься на другой пирс.
Желтая субмарина! Мы спрыгиваем с трапа и оказываемся на кормовой части лодки, рядом с открытым люком. В люк спускаются такие же, как и мы, туристы. Лодку качнуло, палуба ушла из-под ног. Мы ухватились за железные лееры-ограждения, веселый вопль туристов, донесшийся снизу, рассмешил. Но память уже отозвалась, что-то подобное со мною было: судно качнулось и на встречном движении меня накрыло волной.
Теплоход "Мария Ульянова" шел в район лова, Ванкуверо-Орегонскую экспедицию. В актовом зале я читал стихи. Это был мой первый рейс, и я переживал, — выдержу ли? В судовой роли я проходил матросом-добычи БМРТ "50 лет ВЛКСМ". После выступления в актовом зале мной стали интересоваться: капитан пригласил на чай, а судовой врач предоставила в мое распоряжение изолятор — творчество не приемлет суеты. Внимание и уважение комсостава только усугубляли мои чувства. Я потерял аппетит, сон, стал чаще прежнего задумываться над тем, что буду делать, если не выдержу...
И вот однажды глубокой ночью, чтобы прекратить свои, как я называл, интеллигентские рефлексии, решил испытать себя. Через иллюминатор изолятора я вылез на открытую фальшпалубу, точнее, боцманский очкур, забитый сломанным пожарным инвентарем, стульями, бухтами пеньковых тросов и, отмотав и закрепив линь за железный поручень, спустился за борт судна. Там, упершись подошвами в узел (дальше линь обрывался), я застыл. До воды оставалось метра полтора — два, не больше, но воды я не видел. Темень была полнейшей, казалось, что вишу в какой-то бездонной пустоте. Только упругий шелест воды, скользяще трущейся о борт, и высоко вверху, когда поднимал голову, — светлое пятнышко моего иллюминатора. Во мне не было отдельных частей тела: ни рук, ни ног, ничего. Все было — я. Тем более мысль являла меня и только меня, — если разжать пальцы — никто никогда не узнает, что случилось и почему случилось? Наверное, Мартин Иден тоже чувствовал эту пустоту и одиночество, но у него не было страха... Жаль, что веревки не хватает дотянуться до воды... И вдруг я почувствовал, что борт судна отделился, я стал подниматься вверх, и на встречном движении леденящая бездна накрыла меня. Я не захлебнулся, — нет, линь выдернул из воды и на встречном летящем движении опять окунул в пустоту. Я превратился в ужас, в желание во что бы то ни стало вскарабкаться на фальшпалубу. Это был крик души. Я подавил крик, потому что за ним увидел молчаливое присутствие бездны. Она ждала. В ней не было суетливости. Она была уверена в себе. И я испугался, что, вскарабкиваясь по мокрому линю, непременно сорвусь — надо выждать и успокоиться... Видимо, вахтенный на мостике сменил курс судна...
— Тебя просят поднять голову. Посмотри вверх, — приказала жена. — И не забудь меня подстраховать.
Я посмотрел вверх из люка субмарины. На причале стоял мужчина с расчехленным фотоаппаратом и женщина-контролер с журналом, она махала, что можно спускаться внутрь лодки.
К сведению тех, кто бывал на дизельных военных субмаринах Второй мировой войны (во Владивостоке подобная подлодка с муляжами-солдатиками превращена в музей): они не имеют ничего общего с "Жаклин". На военной субмарине каждый дюйм площади занят механизмами, напичкан электроникой, даже кровати членов экипажа со всех сторон стиснуты всевозможными приспособлениями и похожи на мышиные гнезда в норе. Здесь же, как в салоне авиалайнера, но значительно просторнее. Кресел, конечно, нет — мягкие лавки. Не лодка, а фантастический "Наутилус".
Мы с женой расположились по правому борту. Иллюминаторы большие, нам вполне достаточно одного — на двоих. Вытаскиваем вилки своих наушников и подключаемся непосредственно к лодке. Скрип, шипение, какие-то обрывки фраз, словно мы в живом эфире. На самом деле нашим вниманием пытается завладеть гид-стюардесса. Но что-то у нее не клеится. Она подходит к нам и предлагает вернуться к "своим личным" электронным гидам.
"Итак, вы находитесь на желтой подводной лодке..." Сообщается справка тактико-технических данных: максимум погружения — пятьдесят метров. Нас приглашают занять места по правому борту, — удачное совпадение. Не знаю, что там по левому борту, а у нас какая-то впадина. Стайки живописных рыбешек, словно светящиеся мазки художника. Погружение продолжается. Лодка как бы съезжает с невидимой, но очень пологой горы. Рассеянный солнечный свет теперь кажется звездным газом. Рыбешек все меньше и меньше — все больше одиноких крупных особей. Акула! Прямо под нами, идет параллельным курсом. Постепенно она поднимается (обман зрения, это мы спускаемся), вибрация судна едва ощутима, наконец, и вовсе исчезает. Акула плывет вровень с иллюминаторами, а кажется, стоит на месте. В преломлении солнечных лучей чешуя рыб взблескивает, акула же будто в тени, будто вырезана из черного дерева… — К нам в трал такая попала на Гаваях, матросы-добычи называли ее сельдяной акулой. Метра три в длину, по всему туловищу толстая, как бревно. Но больше всего меня поразил верхний хвостовой плавник — в полтора раза длиннее самой акулы. И еще, кожа на спине — черная, зернистая, как наждачный холст.
— А почему сельдяная, она что, не ест людей?
— Ест, конечно, но, когда их нет поблизости, — занимается селедкой.
Если ты бываешь в морях подолгу и судно на многие месяцы становится твоим родным домом — начинаешь воспринимать работу двигателей и вибрацию, как часть воздуха, которым дышишь. Я сразу почувствовал их внезапное отсутствие. Акула неестественно замедлилась и стала как бы падать на иллюминаторы. Мы даже рефлекторно пригнулись, чтобы она ушла вверх, не задев нас. Она ушла, и в ту же секунду на иллюминатор выплеснулись черные перепончатые плавники. Мы подумали, что все это как-то связано с акулой. Вместе с соседями невольно отпрянули и тут же расхохотались над своим страхом. К нам в иллюминаторы стал заглядывать аквалангист с двумя желтыми баллонами за спиной и в маске с круглыми увеличительными очками. — Ихтиандр?! Перехватываясь за внешние поручни, он двигался по линии иллюминаторов, и было очень весело наблюдать, как всякий раз при его появлении пассажиры с воплем отпрянывали от иллюминаторов, а потом весело смеялись.
Субмарина развернулась на сто восемьдесят градусов. Очевидно, достигла конечной точки. Вновь заработали двигатели, я почувствовал успокоительный ток вибрации. Теперь в нашем иллюминаторе гора с обрывистыми скалами, пологими ложбинами, неожиданными, словно бы искусственными, площадками. На одной из них затопленное судно: то ли буксир, то ли катер погранслужбы. Видны остовы разбитых шлюпок, какие-то предметы и кораллы, словно руины фантастической Атлантиды. Стаи рыб медленно проплывают, словно считывают с останков былую и как бы инопланетную жизнь. Не знаю почему, но присутствие обломков цивилизации вызывает приятную грусть, навевает меланхолические мысли о затопленных городах, кладах, об исчезнувшем величии неких доисторических эпох.
Во второй половине восемнадцатого века философы и теоретики "вкуса" рекомендовали согражданам созерцание развалин не для размышлений о вандализме, а потому, что развалины облагораживают пейзаж. Представляют человеку наглядные картины неизбежной будущей судьбы любой цивилизации. Век просветительства был буквально помешан на руинах. А Сандерсон Миллер даже получил известность, создавая искусственные руины. Думаю, в наших генах есть что-то напоминающее, что гибель и развалины — это не только конец, но и начало, начало будущего восхождения Человека.
Под водой мы пробыли больше часа, показалось — не более пяти минут. Солнечные лучи радостно ударили по иллюминаторам, и мы, стараясь не отстать, обрадовались всплытию. Удивительно, но на лицах у всех пассажиров — восторженное облегчение, словно вот только что избежали неминуемой катастрофы. Противоречив человек.
Когда вынырнул из люка субмарины, — женщина-контролер всучила буклет с рисунком подлодки и надписью: "The yellow submarine". Внутри, на развороте, было наклеено мое фото: по пояс выглядывал из люка. Точно таким же буклетом (разумеется, с ее фото) осчастливили и жену. Не знаю, почему подводную лодку "Жаклин" во всех буклетах и справочниках называют не иначе как "Желтая субмарина"? Согласно пафосу туристической литературы, поднимающейся до "высот": "Эйлат-Израильская Ривьера на Красном море"... "место, где зимует солнце", — было бы более естественным называть такую, действительно замечательную, подлодку "золотой" или, на крайний случай, "золотистой" — увы, всего лишь: "Желтая субмарина". Что за необъяснимая скромность — непонятно!
Глава 14.
Анна-гид встретила нас на основном пирсе, а искала в подводной обсерватории. Новость, что мы погружались на подлодке, восприняла недоверчиво, подумала, что разыгрываем. (Оказывается, так просто купить билеты на субмарину практически невозможно, надо обязательно заказывать загодя.)
Японский микроавтобус был не полон. Первая группа экскурсантов уже уехала на ювелирную фабрику. Нас определили в группу "невместившихся". Впрочем, все "невместившиеся" оказались, как на подбор, VІР-туристами. Во всяком случае, наш маршрут проходил не по прямой, а с заездами в частные кварталы и новостройки фешенебельных домов и пентхаузов. Анна перечисляла достоинства: в каждой квартире джакузи, электрические жалюзи — шикарная кухня. Повсюду мраморные полы, в том числе и на балконе. Телевизионный интерком. Две системы кондиционирования (холод, тепло). Крытый бассейн с подогревом, большое красивое лобби. Частная стоянка рядом с домом. И все это за сумму, начиная всего с двухсот семидесяти тысяч долларов и выше. Выше уходило за облака: за миллион, и тем не менее среди пассажиров находились любопытствующие — записывали телефоны фирм, предлагающих недвижимость.
Мы не участвовали в разговоре. Микроавтобус в соответствии со своими пышными формами двигался медленно, с ленивым достоинством, мы успевали посмотреть не только на внешность коттеджей, но и заглянуть в уютные дворики в тени пальм. В общем, подъехав к фабрике, стоявшей за высокой стеной цветущего кустарника, я не сразу сообразил, что это финиш. И только потом, когда зашли на просторную веранду, на которой Анну ожидали такие же, как и мы, туристы, понял — приехали.
Собственно фабрика находилась в полуподвальном помещении, что являлось безусловным достоинством, учитывая главный бич — солнце. Нас встретил рабочий как бы с плаката СССР — седоусый, в фартуке, с оголенными мускулистыми руками. Они с Анной весело переглянулись и она, попросив нас походить по помещению, адаптироваться, куда-то исчезла, прямо-таки испарилась.
Ничего интересного я не нашел. Камнерезные, долбильные, шлифовальные станки с целенаправленной подачей воды. Сверла различной толщины, длины и конфигурации. Разных форм стамески, молотки, зубила, в общем, все, что называется инструментом, оставило меня равнодушным. Я не понимал туристов, которые рассматривали их с искренним интересом. Единственное, что я взял в руки — обломок эйлата. Холодный, с одной стороны отшлифованный — синь и лазурь в нем сливались до такой степени, что мне показалось, я взял в руки кусочек моря. Жена попросила поднести эйлат поближе к свету.
— Что, красиво? — спросила Анна.
Теперь она была в таком же халате и фартуке, как и седоусый рабочий. И с такими же оголенными руками, и еще... шеей. Да, на шее — ничего, а прежде (до облачения в рабочую спецовку) что-то было, какое-то запоминающееся ожерелье, — какое?! Машинальность памяти тем и замечательна, что контролируется подсознанием, пока не происходит сбой, какое-то несоответствие с настоящим. Тут только и включаешься, тут только и ловишь себя на мысли, что конкретно ничего не помнишь.
Между тем Анна взяла обломок эйлата и, посовещавшись с седоусым, закрепила камень в станке. Затем, как заправский обработчик, нажала кнопку и — циркулярный резец высек снопы искр. Казалось, что в руках у Анны бьется мифическая жар-птица. Вскоре все экскурсанты наблюдали только за ней. На наших глазах Анна не только разрезала камень, но и отшлифовала плоскость среза. Седоусый внимательно следил за всеми ее движениями, а когда взглядывал на нас, — на лице прочитывалась гордость.
Рассказывая об эйлате и самолично показывая различные способы его обработки, Анна не упускала случая свериться с седоусым, называя его то мастером, то учителем, то великим знатоком всех медных руд Израиля. Сноровка и ловкость Анны, а главное, понимание камня многократно превосходили знания самого эрудированного гида и, предвосхищая наши вопросы, она сообщила, что по прибытии из СССР несколько лет работала на этой фабрике и очень благодарна седоусому, он научил ее всему.
Разделяя уважение Анны, мы невольно посматривали на мастера, он насупливался, закрываясь бровями, а потом подносил ученице какой-нибудь особый камень, подсказывая, о чем еще надо рассказать. И Анна рассказывала о том, почему один камень имеет более глубокий синий цвет, а другой — более зеленый. О том, что эйлата становится все меньше и меньше, многие шахты законсервированы — государство взяло под охрану разработку залежей. Словом, попав в ювелирный магазин при фабрике, никто из экскурсантов не отказал себе в удовольствии приобрести какую-нибудь вещицу с эйлатом. Недорогие брошки, сережки, со вкусом отделанные серебром и платиной, являли собой поистине произведения искусства. Нам приглянулся золотой крестик, вделанный в лазурный камешек овальной формы и вместе с ним заподлицо отшлифованный. И еще мы взяли несколько воздушных пластинок хамсы с зелеными капельками эйлата как раз посередине ладони.
Но самое большое впечатление на нас произвел ювелирный магазин на втором этаже — драгоценные камни, жемчуг, золото. Именно здесь я совершил одну из тех роковых ошибок, которые свойственны всем, получившим свое колхозно-совхозное воспитание.
Я расчехлил фотоаппарат, и мы с женой подошли к самым богатым витринам. Бриллиантовые колье и кольца. Золотые брошки и сережки, украшенные сапфирами и изумрудами. Красивейшие ожерелья из белого и черного жемчуга. Все это сверкало, пело и неистовствовало в сиянии электричества.
— Вот это ожерелье из черного жемчуга… Ничего себе — тридцать тысяч долларов!
Жена согласилась примерить ожерелье. Я подозвал девушку (благо, она говорила по-русски). В общем, мы примерили и это ожерелье, и поменьше — за одиннадцать тысяч. Жена подходила к зеркалу, разглядывала себя, а я фотографировал. Скажу откровенно, ни жемчуг, ни кольца меня не трогали, а жена раскраснелась, даже как будто помолодела. Особенно, когда примерила бриллиантовое колье. Я сам едва не всплеснул руками:
— Интересно, почем эта красота?
— Тринадцать тысяч пятьсот долларов, — отчетливо сказала девушка.
А я стоял и смотрел на жену. Я не мог оторвать взгляда, так сверкала чистой воды голубизна камней, так удачно оттеняла ее темно-серые глаза, слегка загоревшую кожу и, вообще, всю ее от макушки до пят. Она преобразилась. Я услышал музыку сфер, дыхание роз... Я ощутил высший магнетизм мгновения. На какую-то долю секунды представилось, что я стою в царских покоях перед царицей.
— Ну, что же вы — фотографируйте, — сказала девушка (она помогала жене застегнуть колье).
Я машинально щелкнул фотоаппаратом. Из зеркала на меня смотрела женщина, которую я не знал и, судя по моим писательским заработкам, уже не узнаю никогда. Царица еще раз окинула меня взглядом, и зеркало опустело.
Больше ничего жена не примеривала, сказала, что у нее разболелась голова. А тут еще Анна-гид, снова в стального цвета платье и в ожерелье из крупного черного жемчуга.
— К вашим вишневым глазам черный жемчуг — очень даже ничего! — Анна зарделась.
— Май фрэнд!
А я подумал, что иметь драгоценности, конечно, важно, но еще важнее — когда есть, кому их показать.
Глава 15.
Аэродинамическая труба рядом с отелем "Дан". Каких-то четыреста метров — не больше. Но все эти четыреста метров по сплошной грязи. Ни асфальта, ни тротуара — ничего. Две-три колеи грузовых машин, залитых жижей, — вот и вся дорога.
Дело в том, что аэродинамическая труба — это новостройка, к тому же всю ночь лил дождь и даже утром накрапывал. Мы шли по грязи, и такую сплошную грязь я встречал только на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Коксохим под Барнаулом. Конечно, можно было вернуться, заказать такси и проехать к аэродинамической трубе на машине. Но кто же знал, что не будет ни бетонки, ни тротуара? Напротив, нам казалось, что еще чуть-чуть, и они обнаружатся.
— Нет, наше дело — труба, — сказала жена. — Причем — самая настоящая!
Она предложила смотреть не под ноги, а на эту самую трубу, которая возвышалась над деревянной изгородью, словно круглый остов недостроенной элеваторной башни. Сходство с незавершенкой усиливалось присутствием сине-красного полотна, которое трепыхалось над остовом, словно временная крыша.
— Чем мне нравятся евреи — они завозят в Израиль культуру той страны, из которой эмигрировали.
— Ты думаешь, этот кусочек СССР привезли сюда наши?
Во всяком случае, они приняли непременное участие в роли консультантов. Ты же слышала, отец Анны какое-то время тоже работал консультантом.
— Ой!..
Жена выдернула ногу из грязи, а туфля осталась — присосало глиной. Я вытащил туфлю, и в дальнейшем все лужи она преодолевала, повиснув у меня на шее. Это настраивало ее на философский лад.
— Знаешь, а я согласна — евреи молодцы. Я даже рада, что они привезли с собой кусочек СССР. Это для того, чтобы мужчины никогда не забывали, что они — мужчины! А иначе — труба, причем аэродинамическая... от слова — динамит.
Мы минули ворота и словно попали в своеобразный оазис чистоты и порядка. Кругом асфальт. Вагончики с верандами, гаражи, курилка — все в специально отведенных местах. Но главное — указатели и надпись на табличках: здесь — сбор экскурсантов, там — инструктаж, а в следующем помещении — необходимый тренинг и усвоение навыков по технике безопасности. Именно перед этим помещением, в классе с длинными столами, мы подписали бумаги, что деньги за билеты нам не вернут.
Одним из условий усвоения навыков были прыжки с площадки с непременным сальто и приземлением на поролоновые матрасы обязательно мягким местом. На площадку приходилось подниматься по высокой стремянке, но самым трудным было — сгруппироваться в момент перевертывания. Впрочем, и это еще ничего. Основная беда заключалась в том, что поролоновые матрасы были настолько ветхими и какими-то пустыми, что, падая на них, мы довольно чувствительно ушибались об пол. Между тем инструктор требовал, чтобы никто не обращал внимания на такие мелочи и для острастки даже сам сделал сальто-мортале. Но, очевидно, не совсем удачно. (После прыжка по всякому поводу улыбался и раз за разом встряхивал головой, словно хотел освободиться от непрошеных мыслей. Никогда еще я не видел лиц и рук, столь плотно раскрашенных синяками. Даже на плакатах в травмпунктах художества куда более сдержанны.) Глядя на него, пожертвовав деньгами, большая часть экскурсантов (в том числе и жена) отсеялась. Впрочем, никто не ушел из зала, с ужасом и восторгом ждали, что сейчас кто-нибудь из нас, оставшихся смельчаков, свернет себе шею.
Я тоже был полон сомнений, но решил стоять насмерть, что при моих габаритах было вполне реальным. Когда я залез на площадку и стоял на полусогнутых (потолок мешал встать во весь рост), — не только жена — все в зале потеряли дар речи, а инструктор что-то мычал и хлопал глазами, как оглушенный.
Думаю, что в тот момент было бы самым разумным отказаться от прыжков и аэродинамической трубы. Но оказывается, в жизни не все разумное — разумно, а глупое — глупо.
Мы шли в район лова — на Гаваи, и это был мой первый рейс в чине первого помощника капитана. Жара стояла несусветная, а наш СБМРТ старой постройки, переоборудованный из транспортно-производственного рефрижератора, не имел кондиционеров. Мы задыхались, и капитан разрешил, используя слип, построить на кормовой палубе временный бассейн. У боцмана нашлись доски, брезент, в общем, за день матросы отгрохали такой бассейн — любо-дорого! метра четыре в глубину. За ночь наполнили, — а утром уже купались вовсю.
Некоторые смельчаки (вправду сказать, таких было немного) поднимались на кормовой мостик и сигали в бассейн: кто "солдатиком", а кто и головой.
Я тоже поднялся (отдых экипажа — сфера ответственности замполита). У меня и в мыслях не было нырять с кормового мостика, я хотел лишь удостовериться, насколько ныряющий подвергается опасности. А опасность была. Во-первых, высоко — метров десять, а то и больше. Во-вторых, до бассейна еще надо было в прыжке как-то долететь, не угодить на слип, с которого, как с горочки, прямиком — под винт. В-третьих, все это усложнялось движением судна. Но самое неприятное — бурлящая полоса воды, которая вдруг съедала слип, а потом нехотя отрыгивала. Эта полоса каждую секунду меняла очертания, не давала сосредоточиться. Лучше всего было бы не смотреть на нее, но она притягивала взгляд, словно пасть акулы, и, словно пасть, — гипнотизировала.
Я несколько раз посмотрел вниз, как бы примериваясь прыгнуть. На самом деле, я всего лишь вынашивал решение запретить прыжки. И тут услышал стармеха: дед не советовал нырять. Он стоял на шлюпочной палубе вместе с капитаном, Геннадием Ивановичем. Капитан только раз взглянул в мою сторону, и меня словно ударило током. Я опять посмотрел вниз. Матросы, освободив зеркало воды, ждали. Ждали и на траловой палубе, и на пеленгаторской, и не просто ждали, а уже откровенно посмеивались, мол, у первого-то — кишка тонка!.. О том, что я залез по другому поводу, им наверняка и в голову не приходило.
По судовой радиотрансляции донесся голос старпома, от имени командира он строго-настрого запрещал нырять с кормового мостика. Геннадий Иванович во второй раз ожег своим коротким взглядом, и я подумал — как глупо! И ринулся головой вниз.
А еще через час в кают-компании был вывешен приказ за его подписью о вынесении мне строгого выговора — за нарушение безопасного режима отдыха.
Глубокой ночью разбудил телефон: капитан приглашал в кабинет. Стол украшали бутылка представительской, семисотпятидесятиграммовая "Столичная", два граненых стакана и небольшая головка лука, разрезанная на дольки.
— Это очень и очень глупо закусывать луком, когда в вашем распоряжении весь камбуз и баталерка, — заметил я (тогда я был страшно умным максималистом).
В ответ Геннадий Иванович только усмехнулся.
В ту ночь он сказал, что если бы я не нырнул, то какими-то путями он списал бы меня с корабля. А так... Мы вместе мечтали о предстоящей путине, хорошем улове и, как о фантастической премии — совместном ремонте судна в бананово-лимонном Сингапуре.
После третьего сальто-мортале меня пригласили в отдельный кабинет, и черноокая особа стала увещевать меня сдать билет и получить деньги. Она даже была настроена вернуть деньги и моей жене. Инструктор согласно кивал, но как-то весьма некстати встряхивал головой и улыбался. Создавалось впечатление, что кивать-то он кивает, но с осуждением, не одобряет действий черноокой. Она напрягалась, переходила на иврит, и консультант переставал встряхивать головой и улыбаться, то есть соглашался с доводами, смирялся.
Основным аргументом отказа служило отсутствие нужного аэродинамического костюма, в который нужно было облачить меня.
— Ничего, — сказал я. — Облачусь в то, что есть. Инструктор опять повел себя неадекватно, то есть стал встряхивать головой и улыбаться. И тогда черноокая особа использовала свой последний козырь, пригласила в кабинет мою жену. Замысел был очень прост. В ее присутствии она принялась рисовать ужасные картины всевозможных переломов, оканчивающихся параличом, или даже смертью.
— Но и это не так страшно. Бывают случаи, когда и травм-то особенных нет, а в голове у человека калейдоскоп — красочные фигурки от встряхивания. Плакать надо, а он улыбается — совместный бизнес.
Черноокая особа устало посмотрела на инструктора, а потом на жену и словно бы пожаловалась:
— И уж сколько медкомиссий — ни одной страховки. Говорят: он у вас от рождения такой.
Она еще раз окинула взглядом своего сотрудника (меня для нее не было) и, остановившись на жене, вдруг с силой спросила:
— И вам это надо, и вы этого хотите?!
— Да, я этого хочу! — с не меньшей силой членораздельно сказала жена и, с вызовом взглянув на нее, вышла из кабинета.
Ее ответ только на мгновение озадачил черноокую, в следующую секунду она уже наставляла инструктора. (Теперь он не улыбался, а смиренно кивал головой.) Потом, перейдя на русский, она неискренне обрадовалась.
— Вы добились своего, идите — ваш "образ" ждет...
Меня ждал инструктор. Он по-военному четко повернулся на сто восемьдесят градусов. Черноокая особа хохотнула.
— И, пожалуйста, не обращайте внимания на такие мелочи! "Собственно, что она хотела сказать, что имела в виду — как глупо", — подумал я, и мне вдруг захотелось плюнуть на все и отказаться от так называемых полетов в аэродинамической трубе. Но, как говорится, поезд ушел.
Нас осталось семь человек, остальные — папы, мамы, жены, бабушки, словом, группа поддержки. Мы шли гуськом через асфальтовый двор в направлении бетонного остова, вокруг которого вилась железная лестница. Высоко вверху, напротив дверного проема, она обрывалась, но внутри помещения вновь возобновлялась. Глухие коридоры, дневные лампочки, двери, ступеньки, совсем не страшные плакаты по технике безопасности, опять двери и, наконец, светлый день — небо, хотя и затянутое облаками, но настоящее.
Мы очутились как бы в цирке. Впродоль овальной стены, обтянутой полосатой материей стояли длинные деревянные лавки. Инструктор красноречивым жестом пригласил всех сесть, а сам подошел к коротко стриженному молодому человеку, хлопотавшему за электрическим пультом. (Сдавленный гул турбины, доносившийся, как из подземелья, постепенно нарастал. Создавалась иллюзия, что гул, заполняя какие-то камеры внизу, всплывает.)
Над нами, как окраек срезанного купола, нависал козырек, обтянутый все той же стального цвета матрасовкой. Он оберегал круговое пространство до железной ограды, за которой в уровень с верхним поручнем лежала огромная надутая "баранка" из плотной прорезиненной ткани сине-красного цвета.
Вернулся инструктор, принес костюмы, шлемы, перчатки, очки, тапочки. Костюмы широкие, похожие на полости спортивного парашюта: одна полость — один цвет, другая — другой... и так далее! Тапочки как тапочки, парусиновые, на толстой резиновой подошве. Перчатки — синтетические, растягивающиеся, с обрезанными кончиками пальцев.
А вот шлемы — скорее каски из пластмассы и проволоки, как у хоккейных вратарей.
Экипировался я с трудом, все оказалось тесным, особенно шлем и тапочки. Когда надел костюм — у зеркала чуть не ахнул — какой-то космический далай-лама. Шлем помогала надевать жена и еще — инструктор, маленький, точно подросток. (Впрочем, все смельчаки были достаточно маленькими, — в сравнении с ними я чувствовал себя гигантом.) В завершение осмотра инструктор проверил застежки, показал большой палец, мол, все отлично и вдруг, с силой ударив по шлему, вскрикнул и преувеличенно трагически схватился за ушибленную руку, надо полагать, пошутил. (Оригинально, — не правда ли?)
Между тем гул турбины весьма плотно заполнил или заполонил наше круговое пространство. Теперь надо было кричать, а лучше всего — изъясняться жестами.
Инструктор, поднырнув под верхний поручень, перекатился через накаченный воздухом матерчатый "бублик" и, словно ванька-встанька, оказался на ногах. Юноша, стоявший рядом, поспешил за ним.
Меня пригласили последним. Перемахнув через огромный сине-красный "бублик" я очутился на металлической решетке. Из-под нее невидимой башней поднимался ветер. Он довольно осязаемо оттеснил меня к внутреннему овалу. (Очевидно, оператор добавил мощности, потому что воздух, упруго вырывающийся из турбины, стал подвывать на козырьке, словно на судне в шторм.) Инструктор, подскочив, схватил меня за грудки (он, конечно, хотел взять за плечи, но рост и ветер не дали), и началось, как говорится, борение со стихией.
Жена рассказывала, что это действительно был цирк. Воздухоплаватели и группа поддержки буквально падали от смеха. Это было что-то, не поддающееся описанию. Она сама хохотала до слез, хотя после разговора с черноокой понимала, что ее поведение предосудительно. Но что делать, если со стороны казалось, что мы с инструктором не на полетах, а на корриде, и наша цель растерзать и даже размазать друг друга на металлической решетке.
На самом деле он что-то кричал, показывал, дескать, надо падать на него. Но вся беда была в том, что только я наклонялся, срабатывали зонты-автоматы, костюм надувался, меня подхватывало, и рывком вверх я увлекал за собой инструктора. Чтобы поддержать полет я закидывал руки и голову и словно бы бодал противника. Он отпускал меня, и вихрь опрокидывал его. Сделав сальто-мортале, инструктор приземлялся на воздушные перины "бублика". Но и здесь он не был в безопасности, потому что я, как аэронавт-истребитель, настигал его и таранил, и бодал, как разъяренный бык. Потом мы в горячке подхватывались, выскакивали на круг, и коррида продолжалась.
В нашем борении принял участие и оператор. Когда нас вынесло в самый центр — он, вместо того чтобы убавить, нечаянно прибавил газу. На какое-то мгновение я увидел отель "Дан", падающего в затяжном прыжке инструктора и внезапно подумалось — это уже чересчур!..
Когда, пошатываясь, мы покинули решетку и ограждение трубы, на нас смотрели, как на родных клоунов, не скрывая непрошеных слез. Может быть, это было чуть-чуть обидным, но глядя на улыбающегося и встряхивающего головой инструктора, я был уверен, что никто, в том числе и туристы из группы поддержки, нисколько не жалеют о напрасно потраченных деньгах. Аэронавтика — дело весьма дорогостоящее.
Глава 16.
Герман Лернер, а может, Альберт Иванович Лернер, или тот Лернер, что похитил в России восемьдесят миллионов долларов и решил припеваючи жить в Израиле, приехал за нами на своей уникальной машине, чтобы отвезти нас на Коралловый берег — там причаливают мини-катера, с помощью которых осуществляются полеты на парашютах. Впрочем, когда дело касается Лернера, с которым мне довелось беседовать на балконе отеля "Дан" ничего определенного утверждать нельзя, кроме того разве, что Анна-гид именно ею имела в виду, когда говорила: "май френд". Сам же он представился:
— Герман Лернер, — и, распахнув дверцу машины, пригласил: — добро пожаловать в еврейский народный автомобиль!
Еврейский народный автомобиль представлял собою "Фольксваген" пятидесятых годов. Красного цвета, трехдверный "жук" с блестящими никелированными бамперами, зеркалами, фарами и подфарниками, всякими вензелями и рейками. Таких допотопных "насекомых" мне доводилось видеть в Западном Берлине в автосалонах "ретро": верх кабины парусиновый, сдвигающийся назад; блеск позолоты, зеркал и темно-зеленого металлика и сейчас стоят перед глазами. Особенно цифра, небрежно написанная на картоне и брошенная на полированную доску красного дерева, из которой, словно из воды выпрыгнув, застыл в воздухе плексигласовый мячик ручки скоростей. DM 89500.
Трудно объяснить, каким образом, но DM 89500, и фамилия Лернер, и ожерелье Анны из крупного черного жемчуга ценою в тридцать тысяч долларов вдруг сошлись и согласовались так, что польщенно хмыкнув, я первым полез в машину.
Когда мы с женой уже сидели в кабине (как бы в средних размеров яме) и "Фольксваген", тарахтя и захлебываясь, шумно несся вдоль побережья, пугая пеших туристов, я спросил Лернера:
— Однако, почему еврейский автомобиль?
— А, интересно, да?! — обрадовался Лернер.
Рябоватые лопатки (темные капушки на розоватой коже) горделиво выдвинулись из-под лямок полосатой майки, нависли над низкой спинкой и над нами. (Вместе с очками на затылке он воспринимался, как некий субъект, выпятивший грудь.)
— Прошу обратить внимание вот на это место. Он взял как бы в щепоть расстояние между носом и верхней губой и, повернувшись, стал показывать нам.
Машина несколько раз вильнула на асфальте.
— Ничего, я контролирую ситуацию, — заверил нас Лернер, но визг тормозов встречного автомобиля тут же опроверг заверения. (Мы едва не столкнулись лоб в лоб с армейским джипом. Не знаю, что осталось бы от нас?!)
Во время перебранки, почувствовав, что Лернер ссылается на нас, как на туристов, мы с женой, помогая друг другу, с трудом выглянули из кабины. Да, отношение к туристам в Эйлате превосходное: водитель джипа, кивнув нам, уехал. Лернер, как ни в чем не бывало, переключившись, рванул. Нас сбросило с окон, мы свалились на дно как бы опрокинувшейся бочки.
Между тем Лернер продолжал:
— Обычно у евреев сюда сходится все лицо...
Он навис над нами и опять стал показывать щепоть. Машина круто вильнула, мы, распластавшись, в один голос взвыли, чтобы Лернер следил за дорогой. В боковые стекла нам было видно только небо.
— Нормально-нормально, приехали, — сказал Лернер, и машина действительно остановилась.
Он помог нам вылезти из автомобиля и, не упуская инициативы, попросил подойти к капоту.
— Видите две рейки, они сбегаются к радиатору, к эмблеме — она, как нос, а бампер — рот, смотрите, все, как у махрового еврея.
Он стал вполоборота и застыл, точно барельеф, чтобы мы смогли сравнить контуры его лица и капота.
— Ну, что?! Похожи?.. Да вы на это место смотрите!
Лернер уж в который раз взял щепотью расстояние между носом и верхней губой.
Честно говоря, никакого сходства я не находил, но и обижать Лернера не хотелось. Может быть, только из-за этого мифического сходства он и приобрел сие ископаемое.
Жена незаметно, но весьма чувствительно толкнула в бок. Мои сомнения ей показались еще более глупыми, чем утверждения Лернера.
— Надо же, какая удивительная наблюдательность! Похожи, очень похожи, можно сказать, копии! — преувеличенно радостно восхитилась жена.
— Теперь вам понятно, почему еврейский народный автомобиль?
— О, еще как! — снова восхитилась жена. Лернер посмотрел на меня, мол, а ты что молчишь?
Я сказал, что на самом деле Гитлер мечтал о "Фольксвагене", как народном автомобиле для немцев.
— В том-то и все дело! — воскликнул Лернер. — Он мечтал для немцев, а получилось для евреев — козья морда истории, ирония, ты хотел этого? на — получи обратное! Не будь извергом. Понятно?
— Понятно, — сказал я, потому что просверком увидел высшую справедливость человека, у которого для фашистов "свой Нюрнберг".
— А ваши дедушка и бабушка здесь, с вами? — вдруг спросила жена.
— Мои бабушка и дедушка остались под Киевом — Бабий яр, тысяча девятьсот сорок третий год. Я их никогда не видел, ничего от них не осталось. Но я езжу на этом автомобиле и думаю, что они там... мною довольны.
Лернер ткнул сандалией в бампер и, не оглядываясь, пошел к причалам.
Ветер весело шумит,
Судно весело бежит…
Да, все именно так. Ветер весело шумит в фонариках парашюта, который реет, словно сказочный цветок. Да-да, судно весело бежит по лазурной глади, и мы слышим завораживающее потрескивание бутона и журчание воды.
Экипаж — три матроса. Один — рулевой, второй — лебедчик, третий — помогает мне непосредственно полететь на парашюте.
Жена сидит в кресле и держит мою одежду, она не участвует в мероприятии, она пассажир. Но ее взяли на катер только как потенциального парашютиста: увидит, как все просто, и вдруг изъявит желание — такое бывает. Лернер остался на берегу, сразу отказался от полетов — на катере посторонним нечего делать.
Инструктор чуть-чуть делает слабину троса и спрашивает: достаточно ли уверенно сижу на широком ремне и крепко ли держусь за стропы парашюта? Я не успеваю ответить, во всяком случае, так показалось. Меня, как пушинку срывает с палубы и уносит вверх. — Боже, все выше и выше! Я не знаю, плакать мне или смеяться. Наконец, болтанка прекращается. Я — в небесах, я — птица! Восторг распирает — небо, оно повсюду!.. Овал бухты, горы в розоватой пыльце, отели, яхты, а наш катер выглядит таким неправдоподобно маленьким, что представляется чужим, не нашим. И это притом, что я вижу трос, прикрепленный к корме, и жену (она машет мне моей кепкой). Кстати, живописный бутон парашюта тоже кажется не относящимся ко мне посторонним предметом. Мне представляется, что я лечу автономно, у меня какой-то свой путь. Корабли, синева, бездонность...
Путь, как у птицы,
Что может разбиться,
Но не может свернуть…
Не представляю, сколько времени длилось воздухоплавание, думаю, недолго — восторг всегда короток. А вот радость души — она бурлила, она продолжалась, и когда сошли на берег, и когда подошли к скучающему Лернеру.
— Ну, как? — преувеличенно приподнято поинтересовался он и постучал себя в грудь. — Бурлит?
— Бурлит, — ответил я, улыбаясь. И тоже поинтересовался, а почему бы и ему не воспарить?
— Нет, — отрезал Лернер.
Мы с женой переглянулись, и я сказал Герману Лернеру, а может, Альберту Ивановичу Лернеру, или тому Лернеру, что похитил в России восемьдесят миллионов долларов и решил припеваючи жить в Израиле, — в общем, Лернеру, о котором Анна-гид говорила не иначе как "май френд", что я имею в виду другое воспарение: у нас есть бутылка водки "Гжелки" московского ликероводочного завода "Кристалл", и мы с Галиной Михайловной (жена утвердительно кивнула) приглашаем его к нам в отель поужинать.
— Хорошо было бы пригласить и Анну, мы завтра уезжаем, а нам в Эйлате, не без ее помощи, было хорошо и уютно, — сказала жена.
— Она не придет, ей нельзя, она на работе.
Мы с женой удивленно переглянулись. Тогда Лернер пояснил, что мы, то есть жена и я, — туристы, стало быть, мы — работа Анны, а на работе спиртное строго возбраняется. Почувствовав, что его логика не совсем убедительна, чтобы не сказать, неуместна, вдруг заявил, что они вместе с Анной никогда и никуда не ходят. Это у них железно: либо она идет в гости, либо — он, а вместе — нет, такое правило.
Жена растерянно округлила глаза, что, естественно, придало мне сил и я, как ни в чем не бывало, будто подобные приглашения у нас едва ли не ежеминутны, сказал, глядя на часы, что мы ждем его вместе с Анной или без нее в районе восемнадцати часов.
Глава 17.
Лернер появился без Анны. На нем была свежая голубая тенниска, джинсы и уже известные сандалии на босу ногу.
Ужин получился на славу: фаршированная рыба, всевозможные салаты, фрукты. Впрочем, все это было доставлено из ресторана, единственное, что было нашим (и оказалось весьма кстати) — коробочки с рыбным соусом, которыми нас одарила стюардесса из "Аэрофлота". Благодаря соусу и, конечно, "Гжелке" все блюда (скажем так) стали домашними. Лернер сказал, что такую вкусную кошерную пищу ему доводилось вкушать только однажды в рыбном ресторане киббуца "Эйн гев" (он туда приезжал на музыкальный фестиваль), но это было давно и к тому же такого вкусного соуса там все же не было.
Впрочем, ужин был интересен не сам по себе, а сопутствующей беседой, которая, как всегда бывает после обильного угощения, постепенно овладела нами настолько, что мы с Лернером (по его просьбе, чтобы не мешать Галине Михайловне отдыхать и иметь возможность покурить) переместились на балкон. Однако это не была беседа в классическом смысле. В основном, говорил Лернер, а я лишь слушал, причем старался не перебивать. Не знаю, что тут виною: "Гжелка" или своеобразная манера изложения, но визави довольно часто терял нить повествования. Он был похож на портретиста, который, кого бы ни написал, в результате получает самого себя, свой автопортрет. Знаете, отрывочные мазки: внизу, вверху, там, сям и — общая картина, но только вместе с художником. Если его убрать — стройность композиции сейчас же нарушается, остаются какие-то разрозненные мазки вокруг пустоты. Да-да, без самого Лернера все его повествование теряло всякий смысл, рассыпалось, более того, превращалось в бессмыслицу. Зато вместе с ним, если вы его держали в центре повествования, пусть даже маленьким, с горчичное семечко, рассказ становился красочным, запоминающимся, в некотором роде притчей, требующей истолкования.
Перед вами черноглазый еврейский мальчик, который живет в Биробиджане и точно знает, что на его настоящей исторической родине нет зимы, там — вечное лето! Пальмы, кокосы, бананы, апельсины: все — голубая мечта. А он поет с другими пионерами: "...Не нужен мне берег турецкий, / И Африка мне не нужна". Он поет и вдруг начинает осознавать, что лжет, что Африка очень и очень нужна ему. Там, в Африке — пальмы, кокосы, бананы, апельсины. Там — вечное лето. Там, в Аравии — гора Синай…
Я перебил Лернера: вырвалось, сказал, что мы с женой хотели побывать на горе Синай, ведь мы не столько туристы, сколько христиане-паломники, но, увы, Анна не смогла открыть нам визы.
— Какие визы, что за чушь?! — вскричал Лернер. — Никакие визы не нужны! Подъезжаешь к границе, заходишь на КПП (контрольно-пропускной пункт), платишь столько-то шекелей (очень немного), тебе ставят штамп в паспорт и, пожалуйста, езжай к монастырю... Там от КПП даже рейсовый автобус ходит.
— Может, Анна не знала об этом?!
— Ха-ха-ха! — неискренне засмеялся Лернер. — Все она знала — ложь, ложь, ложь!
Он вскочил и даже в сердцах ногой топнул. Появилась жена.
— Что стряслось?
— Ничего, все нормально, — успокоил я. Лернер сел, устремил свой взор на огни кораблей в бухте.
— Тогда, прошу, на полтона тише, а то соседи выразят глубокое недоумение, — уходя, улыбнулась жена.
— Именно, именно, — согласился Лернер и спросил: на чем он остановился? — Там, в Африке, — пальмы, кокосы, бананы, апельсины, а он пел, что Африка ему не нужна.
Теперь представьте мальчика, разрезавшего руку лезвием и пишущего кровью на обложке дневника, что он никогда не будет врать — никогда. А еще, что он уедет туда, где пальмы, кокосы, бананы и апельсины. Неудивительно, что после этого факта мальчик стал хуже учиться, и его чаще других били сверстники и наказывали взрослые, но он действительно уже никогда не врал. Он превратился как бы в Касьяна-праведника из рассказа Владимира Гиляровского "Штурман дальнего плавания". Но он стал не штурманом, а водолазом. Потому что родной дядька, с которым он мечтал уехать на историческую родину, как-то сказал, получив отказы во всех мыслимых и немыслимых инстанциях, что уехать они не могут — разве что тайно. Вот если бы они были водолазами, — тогда они бы надели скафандры, привязались бы под водой к какому-нибудь иностранному судну и — поминай, как звали.
Дядька, конечно, не предполагал, что семена упадут на столь благодатную почву. Племянник стал водолазом, но, слава Богу, ему не пришлось привязываться к судну. В 1990 году рейсом Киев — Тель-Авив он очутился в Израиле.
В аэропорту "Бен-Гурион" провел несколько часов. Как репатриант получил израильский паспорт, тридцать тысяч шекелей единовременного пособия и сразу же уехал в Эйлат (строительство обсерватории нуждалось в опытных водолазах).
Он приехал, когда смеркалось. Разбил одноместную палатку прямо на берегу, разложил спальный мешок, вещи и выполз на улицу. Наконец-то за столь длинный день он мог отдаться чувству Родины, чувству сбывшейся Мечты. Потому что вся его жизнь имела в виду этот день, и он хотел встретить его не походя, а насладиться им, как наслаждаются чистой родниковой водой в знойный полдень.
Он выполз из палатки босиком, в таких же, как на нем сейчас, тенниске и джинсах. Чуть-чуть накрапывал дождь. Вокруг ничего: ни луны, ни звезд — мягкая тьма. Но глаза скоро привыкли — море, огни кораблей на рейде и еще справа — вдали.
Песок был холодным, и тогда он спустился к морю и пошел по кромке берега туда, где не было огней. Родина. Он вдыхал сладковатый запах пальмовой рощи, перезревших фиников и чувствовал ласковое прикосновение теплого моря. И ни ветерка, ни дуновения, только легкий плеск воды — Родина. И вдруг плечи сами расправились, вдохнув полной грудью, он почувствовал восторг.
— Я зде-есь, зде-есь! — закричал он.
И вдруг услышал оклик и щелканье затвора. Две темные фигуры схватили его за руки и бесцеремонно поволокли по песку. За бетонной оградой он увидел электрический свет, гигантские силуэты строящегося отеля "Herods" и вагончики пограничного КПП.
Ему вывернули руки и карманы и долго допрашивали: кто он и что он?.. Но все равно ему было приятно, ведь его допрашивали солдаты израильской армии, то есть своей. Тогда он плохо знал иврит, но все же уловил, что они требуют документы или штраф в размере ста шекелей. Он объяснил им — на английском, что он репатриант, сегодня приехал и буквально в двухстах метрах отсюда разбита его палатка, в которой лежат деньги — тридцать тысяч и паспорт.
Солдаты переглянулись и с руганью, мол, что же не поторопишься за деньгами и паспортом? вначале вытолкали на улицу, потом отволокли на прежнее место и пинками указали направление, — откуда пришел.
Даже в самой непроглядной тьме (накрапывание дождя усилилось) это было страшное унижение. Добравшись до палатки и упав на спальный мешок, он разрыдался. Так и осталось: чувство Родины — всепоглощающий шум дождя и нестерпимые слезы обиды.
Я вновь перебил Лернера. Мне показалось, что надо отвлечь его от грустных мыслей.
— А этот отель "Herods" весьма красив, мы с Галиной Михайловной хотим, чтобы наш сын (он собирается в Эйлат на отдых) обязательно остановился в нем. Знаете, башенки, мосточки... а бассейны и сады — прямо чудеса света!
— Вы хотите, чтобы ваш сын остановился в отеле "Herods"?! Вы не понимаете, чего хотите, — с грустью резюмировал Лернер. — Вы слышите — "Herods", "Herods"!
Он по обыкновению стал заводиться, а я действительно ничего не мог понять и потому попросил объяснить: в чем дело, что рассердило его? Ведь наше желание подсказать сыну остановиться в отеле "Herods", по сути, невинно.
— Невинно?! — вскочив, вскричал Лернер. — Ничего себе невинно?! (Он опять стал топать ногами.) Да знаете ли вы, что отель "He-rods" звучит по-русски отель "Ирода"? Да-да, того самого Ирода, который искал Младенца (Иисуса Христа, вашего Бога), чтобы погубить Его. Это он послал своих приспешников "...истребить всех младенцев в Вифлееме и во всей области его...
Голос в Раме был слышен,
плач и вопль великий;
Рахиль плачет о детях своих:
и не хочет она утешиться, потому что их нет".
Представьте себе в Москве отель "Ивана Грозного", пятизвездный отель, роскошный, и вы подсказываете всем туристам из Великого Новгорода останавливаться в нем. Или того лучше, всем казанским татарам рекомендуете самый фешенебельный отель Москвы — "Иван Грозный". Как вам, а? А? — со злым ехидством спросил Лернер.
Прибежала жена. Мгновенно оценила обстановку.
— Только, пожалуйста, ничего не подумайте, — который час?
Лернер сел в кресло и, как в ее первое "пришествие", устремил свой взор на огни кораблей в бухте.
Я сказал, что на моих: двадцать два семнадцать. Она напомнила, что нам завтра утром ехать в Иерусалим.
Лернер как бы отсутствовал, но когда жена удалилась, тут же спросил: на чем остановились?
Я сказал, что не разделяю его опасений. Во-первых, русичи, в том числе и новгородцы, уже не те и, конечно, татары тоже не те. И евреи, и египтяне, и французы, и англичане, все-все нации уже не те... Мы можем быть лучше или хуже, но прежними — никогда. Мы люди третьего тысячелетия, а исторические события, исторические личности — это узлы на память, чтобы не быть Иванами, не помнящими родства. Но упаси нас Бог развязывать, или, тем более, разрубать эти узлы — тогда человеку, как homo sapiens никакого будущего на ближайшее тысячелетие не предвидится, причем ни в отдельно взятой стране, ни в мире в целом.
Лернер задумался, покивал головой, утверждаясь в какой-то своей мысли, потом сказал, что, стало быть, я не против — остановиться в отеле "Ирода"?
— Во всяком случае, не вижу в том никакого криминала.
— Может быть, вы и правы, — согласился Лернер. — Но есть другие люди, которые думают по-другому, и у них своя правда.
Он спросил меня, знаю ли я певца Андрея Макаревича, руководителя группы "Машина времени"?
— Лично не имел чести быть представленным, а так — кто ж в России его не знает? Андрей Вадимович ведет по телевидению какую-то популярную передачу о том, как "вкусно готовить".
— Во! И здесь все знает — знаток! Лернер обрадовался, остро сверкнул глазами, я даже обеспокоился, что он опять начнет ногами топать (на этот раз жена бы нам не простила). Забегая вперед, скажу: обошлось.
Оказывается, Андрей Вадимович недавно выпустил книгу о подводном плавании, там множество профессиональных советов, касающихся крепежа снаряжения, техники безопасности и вообще подводного плавания, которые он воспринял от Лернера, но поблагодарить за консультацию (как это водится) позабыл. Так что Лернер теперь сомневается в Андрее Вадимовиче Макаревиче, что лично сам он "вкусно готовит", "пишет слова и музыку своих песен", и даже у него есть сомнения: сам ли Макаревич поет?!
— Ну, это уже слишком, — вступился я за руководителя "Машины времени". — Вас обидели, вы просто обижены.
Но Лернер сказал, что ничуть не бывало, он хотел лишь показать на конкретном примере — все люди разные, у каждого своя правда. Так что по приезде в Россию после житья-бытья в Израиле я не должен удивляться, если одни укажут мне направление пути пинками, а другие вообще позабудут, кто я есть.
Уже возле лифта, прощаясь, я спросил Лернера: кем он работает. Никем, ответил он. Зачем ему работать, если он похитил в России восемьдесят миллионов долларов, чтобы жить в Израиле припеваючи. Его ответ не позабавил и ничего не разъяснил. А на следующий день, когда Анна-гид провожала нас и я, шутя, сказал, что ее "френд" запретил нам, да и всем христианам-паломникам останавливаться в отеле "Herods", она вдруг изумленно вскинула брови и улыбнулась так жалостливо и беззащитно, что сердце сжалось от внезапной горечи — если у каждого из нас своя правда, то всеми нами без исключения правит большая ложь.
|

